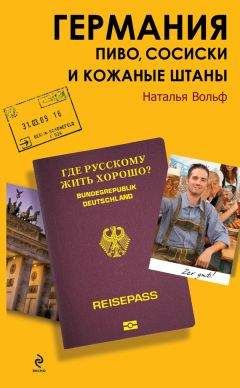Григорий Амелин - Миры и столкновенья Осипа Мандельштама
май-июнь 1922 (III, 311)
Голый король-дитя, сам указующий перстом на себя и одновременно – вдаль и ввысь. На чем настаивает Хлебников? Поэт – шпиц на куполе, репер на вершине горы. Он может быть голым и нищим, он может падать и затем опять взбираться на небосклон наречий, достигая кормчей звезды Севера. Земля – шар, поэт – кий. Это мужеское начало поэзии – здесь язык колокола, рука с пером. Стихотворение категорически настаивает на том, чем не должен быть поэт. А должен он голодным и голым нести хлебную плоть своего имени, песни – как лекарства, смех – как единственную свободу. Сам поэт предстает не надуваемым и сдуваемым масленичным шариком-чертиком, не кормом на палубе, даже не маяком на корме, а колокольным звоном (“за полблином целый блин”) этой Масленицы. Стихотворение относится к 1922 году, когда свобода уже утрачена, но поэт и из этой братской могилы восстает нищим Лазарем, воскресает Спасителем, чтобы звонить колоколом и нести “проливами песни” освобождение от “толпящегося писка” (Шершеневич).
В финале “Дара” Набоков разворачивает ситуацию поэтического противостояния в антогонизм политический, где власть (и большевистская, и самодержавная) – огромный, все больше и больше раздуваемый шар. Вождь, Ленин, поющий гимн власти – “самолюбивый неудачник” с “маленьким ярмарочным писком грошевой истины”:
“Вдруг он представил себе казенные фестивали в России, долгополых солдат, культ скул, исполинский плакат с орущим общим местом в пиджачке и кепке, и среди грома глупости, литавров скуки, рабьих великолепий – маленький ярмарочный писк грошевой истины. Вот оно, вечное, все более чудовищное в своем радушии, повторение Ходынки, с гостинцами – во какими (гораздо большими сперва предлагавшихся) и прекрасно организованным увозом трупов… А в общем – пускай. Все пройдет и забудется, – и опять через двести лет самолюбивый неудачник отведет душу на мечтающих о довольстве простаках (если только не будет моего мира, где каждый сам по себе, и нет равенства, и нет властей, – впрочем, если не хотите, не надо, мне решительно все равно)”.
Эта политическая манифестация, завершающаяся гимном аполитичности, построена по тому же принципу противостояния “шара” и “иглы”. Набоковское равнодушие сродни мандельштамовскому “Мне все равно, когда и где существовать”. Его, Набокова, мир – без власти и уравниловки, там человек свободен. Ярмарочный писк – писк сдувшегося большевистского шара.
В 1944 году в Америке Набоков опять возвращается к теме власти. Она вновь предстает распухшим шаром, причем в выражениях Набоков не стесняется, олицетворением власти служит разжиревшая задница Черчилля:
Наблюдатель глядит иностранный
и спереди видит прекрасные очи навыкат,
а сзади прекрасную помесь диванной
подушки с чудовищной тыквой.
Не забыт и “язык родных осин”: стихотворение “О правителях” построено на противостоянии двух голосов, двух героев – Хлебникова и Маяковского. Текст с самого начала вводит образ Председателя Земного Шара, автора “Смехачей”, ясновидца и сумасшедшего, схватившего планету, как коробок спичек, “чтоб дальше и больше хохотать”, вычисляя ее судьбу; человека, воскликнувшего, что он “никогда, никогда, нет никогда не будет Правителем!”; поэта, звонившего в Зимний дворец и выдававшего себя за ломовика:
Вы будете (как иногда
говорится)
смеяться, вы будете (как ясновидцы
говорят) хохотать, господа –
но, честное слово,
у меня есть приятель,
которого
привела бы в волнение мысль поздороваться
с главою правительства или другого какого
предприятия.
‹…›
С каких это пор
понятие власти стало равно
ключевому понятию родины?
А заканчивается стихотворение прямым и презрительным описанием автора грандиозных поэм “Хорошо!”, “150 000 000” и “Владимир Ильич Ленин”:
Покойный мой тезка,
писавший стихи и в полоску,
и в клетку, на самом восходе
всесоюзно-мещанского класса,
кабы дожил до полдня,
нынче бы рифмы натягивал
на “монументален”,
на “переперчил”
и так далее.
Уже здесь Набоков демонстрирует неплохое знание и “Облака в штанах”, и “Кофты фата”, и обстоятельства жизни и смерти Маяковского, и специфику рифмовки и “лестнички”, и даже финал – легендарное хлебниковское “и так далее”. Маяковский, натягивающий посмертные рифмы на имена Сталина и Черчилля, – с исторической точки зрения, такая же мифологема, как и образ внеисторического Хлебникова. Но сейчас нам важно не это. Набоков берет обоих поэтов как персонифицированных носителей взаимоисключающих начал – свободы и самоубийственного рабства литературы. Символической геометрии шара и иглы напрямую в стихотворении нет, но оно может быть понято только с их учетом.
Граммофонный голос власти, “His Master’ s Voice”, прозвучит в рассказе “Double Talk” (впоследствии названном “Conversation Piece, 1945”), в русском переводе – “Групповой портрет, 1945”. Открещиваясь от своего тезки в стихотворении “О правителях”, что дается ему легко, он обречен на полного тезку, невидимого экзистенциального двойника, голос-тень, избавление от которого – невероятным усилием – возможно только (!) через смех (“Истребление тиранов”).
Обратимся к вставному эпизоду “Адмиралтейской иглы”. Как всегда, он любопытен своей несуразностью. Автор письма спорит с автором романа – Солнцевым. Спор с Солнцем – донабоковский еще сюжет: “Так затевают ссоры с солнцем” (Пастернак). Еще один яростный, язычески-громогласный спорщик с Солнцем-Отцом – Маяковский. Он-то и является всегдашним отрицательным двойником Набокова, негативным дубликатом, дьявольски-неотвязным тезкой – Владимиром Владимировичем. Это тоже не ново. Теневой фигурой протагониста Маяковский появлялся и в “Зангези” Хлебникова, и в образе ротмистра Кржижановского “Египетской марки” Мандельштама, и зловещей тенью Комаровского пастернаковского “Доктора Живаго”, и наконец – в “Пнине” самого Набокова. Но никто не воевал с революционным трибуном столь яростно и лично, как Набоков. Двойники бывают или из прошлого, или из будущего. Маяковский – из прошлого.
Автор письма в “Адмиралтейской игле” не желает, чтобы его убивали в одноименном романе: “А в конце книги ты заставляешь меня ‹…› погибнуть от пули чернокудрого комиссара”. Сам Набоков здесь спорит с человеком, который уже ответил “не быть!” на извечный гамлетовский вопрос, – с Маяковским. И небытие это восторжествовало с момента выбора ложного пути, а не самоубийства, т. е. задолго до 14 апреля 1930 года. Но в какой-то момент отличение от своего двойника дается с трудом. Налет “фасонистой лжи” различим в дореволюционные годы и в самом авторе письма (читай: в Набокове): “одевался под Макса Линдера”, стихи сочинял “всхлипывая и мыча на ходу”, поэзия его была “заносчивой”, с “тяжелым и туманным строем чувств и задыхающейся, гугнивой речью”. Безоговорочное отличение и отталкивание происходит осенью 1917 года и определено большевистским переворотом.
Нелепый эпизод начинается с высокой трагедийной ноты: “И все-таки я буду, как Гамлет, спорить, – и переспорю Вас”. И это пари – на подмостках парикмахерской. Очень странное место для решительного, гамлетовского объяснения. Зачастую комментаторы Набокова, особенно увлекающиеся возвышенными гностическими реминисценциями, забывают о главном условии им поставленном: космическое и умозрительное нередко теряют буквы “с” и “з”. Это и есть особый дар – помнить о комическом и уморительном, даже получая приглашение на казнь. Итак, интересующий нас, уморительно-умозрительный эпизод: “Занимая свое место в кинематографе “Паризиана”, Леонид кладет перчатки в треуголку, но через две-три страницы он уже оказывается в партикулярном платье, снимает котелок, и перед читателем – элегантный юноша с пробором по самой середке маленькой, словно налакированной головы и фиолетовым платочком, свесившимся из карманчика. Помню, действительно, что я одевался под Макса Линдера, и помню, как щедро прыщущий вежеталь холодил череп и как мсье Пьер, прицелившись гребешком, перекидывал мне волосы жестом линотипа, а затем, сорвав с меня завесу, кричал пожилому усачу: “Мальшик, пашисть!””. Парикмахерская – тщательно скрываемый Набоковым литературный топос. Здесь герои придают себе благообразный вид, авторы – самым неблаговидным образом проверяют себя на зрелость. Набоков признавался, что на Касбимского парикмахера “Лолиты” он потратил месяц труда. В зеркале парикмахерской отражается не герой, а сама литература. Первое лирическое отступление – стихотворение Владимира Маяковского “Ничего не понимают” (1913):
Вошел к парикмахеру, сказал – спокойный:
“Будьте добры, причешите мне уши”.
Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,
лицо вытянулось, как у груши.
“Сумасшедший!
Рыжий!” – запрыгали слова.
Ругань металась от писка до писка,
и до-о-о-о-лго
хихикала чья-то голова,
выдергиваясь из толпы, как старая редиска.
(I, 57)