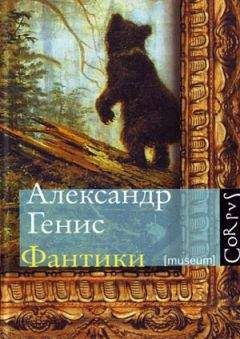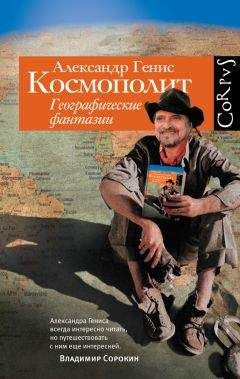Александр Генис - Вавилонская башня
Если в гордом XIX веке главным считалось стать самим собой, то сегодня важнее умение быть другим. Поэтому мы осваиваем искусство конструирования (лучше сказать — выращивания) альтернативных, игровых личностей.
В 1994 году « Нью-Йорк таймс мэгэзин» устроил на своих страницах диспут между лучшими дизайнерами мира о тенденциях современной моды.[112] Но затея не удалась, так как выяснилось, что им не о чем спорить: сегодня всё в моде. Мода стала всеобъемлющей, а значит, в нее нельзя не попасть. В ней ценится не стиль, а эклектика, не вкус, а беспринципность, не самовыражение, а утонченный обман. Вместо того чтобы маскировать наши недостатки, подчеркивать достоинства и выражать дух эпохи, мода учится расщеплять индивидуальность, создавая фантомные личности.
Мы хотим быть разными, отличаясь не только друг от друга, но и от самих себя. Задевая все более интимные части нашего « я», мода становится по-настояшему тотальной. Она меняет не только одежду или прическу, но весь наш облик. (Пока я это писал, открыли ген, определяющий цвет волос. Так что скоро начнут продавать препарат, позволяющий не красить, а выращивать волосы любой, самой причудливой расцветки.)
В сегодняшней моде множество первобытных черт. Не зря « городскими индейцами» назвали панков, открывших самую радикальную страницу в истории моды. Это и переживающее на Западе бурное возрождение искусство татуировки, и продетые сквозь кожу « колечки» и « серьги», и сложные волосяные узоры, выстриженные на полувыбритых головах.
Впрочем, и вне эпатажа остается простор для всевозможных экспериментов с телом. Утратив постоянство форм, оно стало восприниматься изменчивым. Тело — не судьба, а первичное сырье, нуждающееся в обработке. Мы чувствуем ответственность за то, как распоряжаемся своей внешностью.
Сегодня каждый второй американец пытается похудеть и чувствует свою вину, когда ему это не удается. Пациенты, прошедшие через мучительную хирургическую операцию по удалению жира, говорят, что в Америке лучше быть слепым, чем толстым.
Наиболее эффектная форма самоэволюции — культуризм, который точнее описывает американский термин body-building. Критик и искусствовед Камилла Палья с восхищением пишет о культуристах как о « новых рыцарях, давших обет отрастить себе латы из мышц».[113] В этом постоянно набирающем силу движении есть и чисто эстетический аспект — культуристы сознательно делают из себя копию знаменитых статуй.
Телесной изменчивости соответствует и протеичность психическая. Сегодня можно строить себе не только другое тело, но и другую душу. Компьютерные цепи Интернета, позволяющие миллионам людей общаться, не видя, не слыша и не зная друг друга, открыли путь к созданию вымышленных электронныхличностей. Эти кибернетические фантомы позволяют нам дурачить не только других, но и себя, примеряя разные личности, как платье.
Когда всевозможные разновидности телесного творчества « body-art» соединятся с электронным психическим протезированием, на свет появится « self-art» — « искусство себя». Вместо того чтобы потреблять чужое искусство, мы станем производить его сами и из себя.
В постиндустриальном искусстве толпа берет реванш над поэтом, растворяя его личность среди мириадов соавторов.
« Караоке» — так называется родившаяся в Японии забава, которая позволяет посетителям ресторана петь вместе с рок-звездами, то есть вторить с эстрады записям их песен. Этот незатейливый вид самодеятельности уже покорил и американские бары, где « караоке» стало популярнее стриптиза.
Современное искусство стремится к сотворчеству. Всеми силами оно пытается втянуть нас в свою орбиту. Компьютеры, предусматривающие « интерактивные» развлечения, грозят выжить самый популярный вид досуга — телевидение. Новые театры, выставки, книги, телепередачи навязывают нам все более активную роль.
Аудитория теперь должна не сочувствовать, а соучаствовать. Художник, соблазняющий нас тем, что зовет в соавторы, больше не певец, он — запевала. Его искусство сводится к провокации нашего воображения, к организации не своего, а нашего художественного творчества.
Современное искусство перестает им быть. Оно уходит в фольклор, возвращая нас к первобытной эстетике, которая не знала разделения на автора и исполнителей. На танцы не смотрят — танцы танцуют.
« Литургическое», всех объединяющее искусство становится ритуалом.
Такая метаморфоза созвучна духу настоящего времени: ритуал сворачивает линейное время в кольцо, лишая его будущего.
Заменяя неизвестное известным, позитивизм укрощал случай детерминизмом. Ритуал не укрощает, а приручает случаи, заменяя неизвестное привычным. Проще всего предсказать, что вы будете делать в новогоднюю полночь.
Ритуал умеет повторять, не повторяясь. Рождество может надоесть только Скруджу. Про Моцарта нельзя сказать, что мы его уже слышали. И борщ всегда одинаковый и всегда разный.
Замкнутая в настоящем времени жизнь ходит по кругу — она не развивается, а углубляется. А ритуал, преображая будни в праздники, следит за тем, чтобы повторяемость не вырождалась в монотонность.
На этом построена не только культура постиндустриального общества, но и его экономика. Благодаря рекламной экспансии, мы постоянно живем накануне праздника.
Даже на моих глазах американская торговля за два десятилетия существенно усугубила сезонность нашей жизни. Между Хэллоуином, Днем благодарения и Рождеством уже не осталось коммерческих промежутков. Предпраздничные торговые кампании дышат друг другу в затылок, так что календарь распродаж уподобился змее, кусающей себя за хвост.
Но сам ритуал бескорыстен, ибо самодостаточен. Его цель — он сам. У него нет итога, нет результата, нет того материального остатка, который служит искусству оправданием перед вечностью. Не поддаваясь ни сохранению, ни имитации, ритуал живет только до тех пор, пока он живой.
Ритуал предельно конкретен, ибо происходит « здесь и сейчас», и нематериален, ибо существует только в сознании тех, кто его отправляет. Искусство, бывшее или ставшее ритуалом, не оставляет следов.
В книге « Миф машины» Луис Мамфорд пишет, что мы несправедливо оцениваем достижения первобытных народов, потому что умеем судить о них лишь по материальным достижениям их цивилизации — руинам примитивных сооружений или остаткам утвари и орудий труда. Между тем главные успехи архаической культуры слишком эфемерны, чтобы сохраниться. Это песни, пляски, религиозные церемонии, бытовые обряды.[114]
« Живые» виды архаического искусства нельзя пересказать. Записанные на бумагу или пленку, они так же похожи на оригинал, как рентгеновский снимок на человека.
Ритуалы вообще не поддаются объективному изучению. По-настоящему они существуют лишь для тех, кто в них участвует. Чтобы оценить их незаменимую важность, судить о них необходимо изнутри.
Всем, кто пережил СССР, история дала шанс оценить горечь ритуала, ставшего « немым».
Перебирая в памяти достижения советской цивилизации, мы всё с большим трудом находим то, чем будут гордиться наследники. Слова ее кажутся незрелыми, образы — наивными, сооружения — шаткими. Все обаяние советской культуры — а без него не обходятся и самые темные эпохи — сосредоточилось в наших ритуалах.
Общественная энергия, лишенная выхода вовне, создала внутренний, независимый от государства образ жизни с прочными традициями и строгими табу, с иерархией и этикетом, с легендам и и мифами, с ритуалами и обрядами.
Одних эта — неофициальная — культура дарила счастьем, другим — помогала выжить, третьим — сохранить достоинство, у четвертых, пришедших со стороны, она вызывала зависть, у пятых — ностальгию. Но главное в том, что, когда эта богатейшая и разветвленная культура окончательно умрет, она сохранится лишь в памяти последнего советского поколения.
Как живое существо, ритуал не только умирает, но и рождается. Повивальной бабкой ему служит художник. Он своего рода церемониймейстер, изобретающий, точнее, зачинающий ритуалы.
Их судьбу — чахнуть им или расти — определяет уже не художник, а мы. Сегодняшний художник в отличие от вчерашнего создает не « картины», а « рамы» для творчества толпы.
Устройством таких ритуальных рам занимается один из самых чутких к духу настоящего времени художников — английский режиссер Питер Гринуэй. Сейчас поэтапно осуществляется его грандиозный, рассчитанный на десятилетие проект. Гринуэй составил маршрут особых экскурсий по Риму, Токио, Москве и другим столицам. В каждом городе он намерен обстроить колоннами, лестницами и пирамидами ряд точек-ракурсов, с которых открывается фиксированный вид на окрестности. По этому маршруту в определенной временной и пространственной последовательности должны передвигаться участники ритуального шествия. Объяснить значение всего этого странного действа Гринуэй отказывается, и правильно делает.