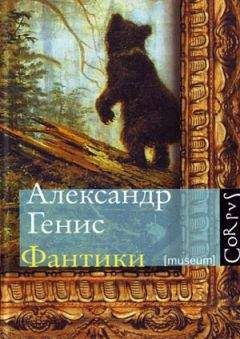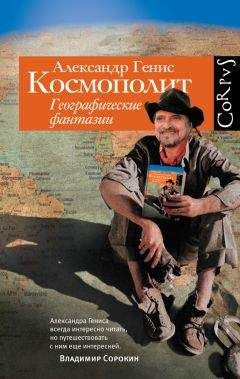Александр Генис - Вавилонская башня
Создать символ — значит обратить вещь в процесс и тем спасти ее от повторения. Размножить нельзя только то, что беспрестанно меняется, — например стареет.
Мы привыкли считать, что создающее нетленные шедевры искусство спасает от бега времени. Но стоит убрать установку на вечность, как различие между процессом и вещью становится весьма условным.
Упразднив результат, можно обратить искусство в ритуал.
В 1989 году в Нью-Йорке впервые на Западе состоялась презентация «Калачакры» — песчаной мандалы. В течение двух недель монахи в соответствии с детально разработанными правилами древнего обряда насыпали из разноцветного песка огромную буддийскую «икону», богатую не только философскими, но и красочными оттенками. Как только этот вдохновенный и кропотливый труд был завершен, мандалу смешали, а пошедший на ее изготовление песок ссыпали в Гудзон.
С западной точки зрения это равнозначно уничтожению произведения искусства, с восточной — шедевром был не результат, а процесс.
Смертное искусство вписывается в органическую парадигму- ведь умереть может только живое. Открыв свое произведение ходу времени, воздействию среды, произволу случая, художник берет в союзники жизнь. Следы изношенности — трещины, патина, ржавчина — придают вещи неповторимость. Ведь только естественное, как учил Чжуан-цзы, нельзя изменить.
Вещь, обращенная в процесс, расплывается, теряет твердость, жесткость своих контуров. Перестав быть окончательной, она «размазывается» по времени, не обретая себе в нем окончательного пристанища.
Стремительность технического прогресса сделала всякую вещь «живой», «текучей», лишив ее основательности и стабильности.
Скажем, наши персональные компьютеры так быстро устаревают, что владелец вынужден их постоянно достраивать и обновлять. Компьютер открыт в будущее. У него нет набора неизменных качеств и свойств. Мы не знаем, на что он окажется способным завтра, более того, мы даже не знаем, на что он будет похож. Поэтому мы вынуждены описывать компьютер не как вещь, а как процесс.
Достигнув постиндустриального этапа, прогресс не удаляет технологию от природы, а приближает к ней. Наша среда становится все более живой, в том числе и в прямом смысле.
Так, многие сегодня предсказывают великое будущее биоиндустрии, основанной на эксплуатации биологических ресурсов, то есть жизни напрямую. Например, американцы рассчитывают приспособить питающиеся нефтью бактерии для очищения загрязненного океана. Другие микроорганизмы японцы используют в качестве катализатора при изготовлении пластмасс. Третьи — за их внедрение была присуждена Нобелевская премия 1993 года по медицине — стали незаменимыми в диагностике.
Перспективы тут такие, что советник Смитсоновского института Томас Лавджой пишет: «В XXI веке экономическое могущество страны будет оцениваться не по запасам ее полезных ископаемых, а по богатству и разнообразию ее биологических ресурсов».[101]
Биоиндустрия не самая новая, а самая старая отрасль хозяйства, благодаря которой на свет появились хлеб и вино. Эта технология учит нас обходиться с природой как раньше: не покорять и даже не подражать, а сотрудничать с ней.
Мы не знаем, что такое жизнь. Мы не умеем ее изготовлять, но это вовсе не мешает нам пользоваться живым, не понимая его устройства.
Научная парадигма приучила нас к машинам, принципы работы которых ей известны. Но до того как человек построил машину, он уже умел пользоваться тем, чье таинственное устройство он не понимал, — например, кошкой.
Искусство настоящего времени
Один режиссер говорил мне, что берется экранизировать любое китайское стихотворение. В это легко поверить. Дело в том, что восточному поэту показалось бы бессмысленным обычное для его западных коллег описание чувств. Вместо эпитетов, которые прилагаются к тому или иному эмоциональному состоянию, китайский поэт изобразит обстоятельства, вызывающие это чувство.
Китайское стихотворение написано не звуками (иероглифы можно читать на разных языках) и не словами, а обстоятельствами места и времени, эмоциональными «натюрмортами», составленными из предметов, которые можно услышать и увидеть. Композицию такого стихотворения образует своего рода монтажная рифма перекликающихся образов.
Вот шедевр танского поэта Ван Вэя (701–761) «Осеннее»:
Стоит на террасе. Холодный ветер
Платье колышет едва.
Стражу вновь возвестил барабан.
Водяные каплют часы.
Небесную Реку луна перешла,
Свет — словно россыпь росы.
Сороки в осенних деревьях шуршат,
Ливнем летит листва.[102]
Стихотворение построено на цепочке внутренних «водяных» рифм. С водой последовательно сравниваются время — капли водяных часов, звезды Млечного Пути «Небесная Река», свет — «россыпь росы» и, наконец, листья — «ливнем летит листва».
Так в стихотворении совершается, если употребить формулу из учебников моего детства, «круговорот воды в природе». Водная стихия — то настоящая, то метафорическая, то одинокими каплями, то целой рекой — омывает изображенную им картину, замыкая и растворяя ее в себе. В поэзии Ван Вэя общий, взаимопроникающий ассоциативный ряд — манифестация единства природы с человеком. Он вписывает духовный микрокосм своей тоскующей героини в физический макрокосм мироздания.
Если бы речь шла о Тургеневе, мы бы сказали: пейзаж соответствует эмоциональному состоянию персонажа, «сопереживает» ему. Но на Востоке человек и есть природа — она грустит в нем, а не с ним. Тут нет человека вне природы, нет и природы вне человека. Су Ши пишет:
Вслед за мной облака
Устремятся на северо-запад.
Освещая меня,
Луч луны никогда не умрет.[103]
В старом Китае мир засыпал и просыпался вместе с людьми. Тот же Су Ши:
Вот ударили в гонги —
И день начинается снова.
И поплыл, просыпаясь,
Над горой караван облаков.[104]
Метафорически рифмующийся монтаж, причем часто с теми же «водяными» образами, постоянно применял в своих фильмах Андрей Тарковский. Вода — то речная, то дождевая, то замерзшая — появляется у него всякий раз, когда режиссер изображает то, чего нельзя увидеть, и то, что нельзя сказать.
Этот «восточный» прием характерен не только для часто цитировавшего хокку и Лао-цзы Тарковского. В кино все невидимое и немое говорит на языке природы, на языке стихий. Поэтому китайское искусство, изъясняющееся не словами, а предметами и пейзажами, принципиально близко кинематографу, наиболее синкретическому и в этом смысле наиболее архаическому виду искусства.
Кино работает с довербальной, не опосредованной языком реальностью. Кино строится не из «универсальных атомов», таких, как буквы нашего языка, а из готовых, причем не нами созданных объектов. Кино — утилизация вторсырья: оно имеет дело с материалом, уже бывшим в употреблении, — с вещами, пейзажами, людьми.
Эйзенштейн писал, что кино «заставляет участвовать в действии самую реальную действительность. « У нас запляшут лес и горы» — уже не просто забавная строчка из крыловской басни, но строка из « роли» пейзажа, обладающего такой же партией в фильме, как все остальные».[105]
Кино не столько преобразует природу (в культуру), сколько организует ее с целью сконструировать в сознании зрителя то или иное переживание. Кино не описывает чувства, а вызывает их.
Это же можно сказать и о восточном искусстве, где всякое художественное произведение — эмоциональная икебана, чувственный иероглиф, импрессионистская криптограмма. Это — зашифрованная инструкция к переживанию того невербального опыта, который позволяет зрителю и читателю преодолеть расстояние, время и культурные барьеры, чтобы вступить в мгновенный контакт с художником и поэтом.
Неизбывная «предметность» кино — врожденное свойство и восточной культуры, которой чужда абстрактность.
Еще в начале XX века китайские паркетчики, незнакомые с концепцией масштаба, высчитывали количество потребного материала, склеивая бумажные листы в размер пола, который им предстояло настелить.
Китайские географические карты не только отвлеченные схемы местности, но и попытка передать ее реальные черты — с горами, водами, домами и деревьями. Такие увлекательные карты напоминают те, что раньше сопровождали приключенческие романы.
Феноменально консервативная китайская культура донесла до нас ту конкретность мышления, которую Леви-Строс считал как основным качеством, так и основным отличием первобытного разума от современного.[106]