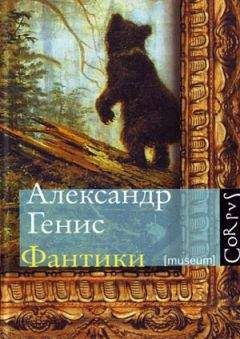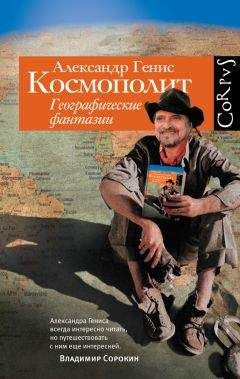Александр Генис - Вавилонская башня
У ритуала нет смысла, но есть цель. В данном случае это реставрация древней практики паломничеств, попытка сакрализовать туризм.
Если цель туризма — новые впечатления, то цель паломничества — новые переживания.
Вместо беглого и хаотического осмотра достопримечательностей наши впечатления организуются и структурируются определенным, заданным традицией образом.
В сущности, ту же цель преследует « отрицательное зодчество» национальных парков, этой экологической версии « священных рощ». Роль художника-архитектора тут сводится к организации и охране незагрязненного проводами и дымовыми трубами оптического пространства. В Америке такие парки, которые посещают по триста миллионов в год, стали огромными, захватывающими по нескольку штатов рамами для первозданной природы.
Для научной парадигмы мир всюду одинаков, для органической — нет. Она возвращается к архаической концепции пространства, умеющей структурировать мир, выделяя и сохраняя в нем сакральные зоны. Поэтому превращение туризма в паломничество восстанавливает неоднородность, зернистость пространства.
Попятный путь от туризма к паломничеству идет через искусство. Художник тут становится « устроителем шествия», организатором зрительских эмоций. Череда видов, разделенных медитативными паузами, должна срастаться в « туристскую симфонию».
В создании такого тотального произведения участвуют как культура, так и природа, как прошлое, так и настоящее, как чужой умысел, так и свой душевный настрой. И исполняется такая « симфония» прямо в душе путешественника.
Такое искусство пишет не красками, а нашими эмоциями, не на холсте, а на нашем восприятии. Не оставляя внешних следов, оно хранится в нашей памяти. Нет у него и настоящего автора — только соавторы, в которые может попасть каждый, кто захочет.
Ритуализация туризма — хороший пример нового искусства, потому что от старого в нем почти ничего не осталось. Зато тут представлены главные черты бесписьменного, невербального, тотального, синкретического, ритуального, мистического, литургического и, конечно, массового, рассчитанного на миллионы, искусства настоящего времени.
На противоположном конце постиндустриального спектра расположено сугубо личное, предельно индивидуальное искусство, рассчитанное уже не на миллионы, а на миллиарды, точнее на всех. Это искусство сновидения.
Сны, конечно, снились всегда и всем, но разные культуры по-разному с ними обращались.
Научная парадигма относится ко сну либо безразлично, либо прагматично.
В первом случае она его игнорирует как « бессвязную комбинацию дневных впечатлении» (этому меня учили в школе). Во втором — пытается употребить в дело как источник информации о состоянии нашей психики.
Тут сон рассматривается как полуфабрикат сознания, нуждающийся в дальнейшей обработке. В процессе ее вместо сна нам достается его описание. Выраженное словами сновидение становится литературным произведением или историей болезни.
Анализируя пересказы снов, Лотман пишет, что, чем рациональнее язык, на который переводится сон, тем иррациональнее нам кажется его содержание. Между тем « повествовательные тексты, какие мы находим в современном кинематографе, заимствуя многое у логики сна, раскрывают нам его не как « бессознательное», а в качестве весьма существенной формы другого сознания».[115]
Но всякий диалог с другим сознанием сохраняет свой смысл только до тех пор, пока это сознание остается другим.
Сон — единственное доступное абсолютно всем переживание иной, альтернативной действительности. С дневной точки зрения это неразлепленный, первородный хаос образов, свернутая реальность, существующая вне наших категорий пространства, времени, причинности. Однако, пока мы спим, сновидческая вселенная кажется нам не более странной, чем мир яви, когда мы бодрствуем.
Сон — пример, если не источник любой метафизической модели. Он позволяет нам двойную жизнь — более того, обрекает нас на жизнь сразу в двух мирах, которые ведут в нас свой беспрестанный немой диалог.
Шопенгауэр, сочувственно цитируя Веды, пишет, что сон, как Майя, покрывало обмана у индусов, « о котором нельзя сказать ни что оно существует, ни что оно не существует».[116]
Впрочем, о сне вообще ничего нельзя сказать, ибо этот невербальный опыт так же бесполезно выражать словами, как, например, утреннюю зарядку. Словами мы можем лишь передать порядок движений, методику упражнения, но не его содержание — рожденному безногим не объяснишь, что значит « приседание».
Сон нельзя пересказать, но это еще не делает его бесполезным. Если считать сон не полуфабрикатом, а готовым к употреблению продуктом, то его можно использовать так, как он есть, — непереведенным, неразгаданным и непонятым.
Обычно сны выполняют в искусстве практическую роль — они предсказывают развитие сюжета. Автор такого литературного сна играет по отношению к своему герою роль всезнающего Бога или Судьбы. Такой сон — художественный аналог пророческих сновидений, в которых содержится зашифрованная от непосвященных информация. Литературные сны — загадка, разгадка которой в руках автора.
Но кино позволило не пересказывать сны, а воплощать их на экране. Кинематограф ведь тоже имеет дело со свернутой реальностью. Прошлое и будущее тут, как во сне, соединяются в настоящее время непосредственного зрительского восприятия. Кино, по выражению Маклюэна, « разрушило стены, разделяющие сон и явь».
После смерти Феллини в Риме был выставлен дневник его снов, который он вел с начала 60-х годов. Многие из них вошли в его фильмы.
Обретая призрачную кинематографическую плоть, сны — не только Феллини, но и Бергмана, Тарковского, Куросавы — остаются самими собой. Это не загадки, а тайны, у которых разгадки нет вовсе. Литературный сон — аллегория, кинематографический — символ.
Такими нерасшифрованными символами часто разговаривает сегодняшнее искусство. Так, рок-канал американского музыкального телевидения MTV уже пытался скупать сны своих зрителей, чтобы снимать по ним видеоклипы.
Коммерциализация снов показывает, что постиндустриальная цивилизация обнаружила новый — « потусторонний» — вид ресурсов.
Впрочем, сны могут быть не сырьем для искусства, но и самим искусством.
В одном рассказе Гессе писателю приснился прекрасный сон. Он пытается передать его на бумаге, но понимает, что его литературный дар не идет в сравнение со сновидением. Он не в силах конкурировать с ним, то есть с самим собой, но находящимся во сне. И тут его осеняет мысль: « Разве не чудо, что можно увидеть в душе подобное и носить в себе целый мир, сотканный из легчайшего волшебного вещества?!». Поняв это, он « отказался от своих замыслов и попыток, осознав, что должен довольствоваться малым: в душе быть истинным поэтом, сновидцем».[117] Так, отдавая приоритет сну перед текстом, Гессе демократизирует искусство, отбирая его у художника, чтобы отдать всем.
Сны надо не пересказывать, не толковать и даже не экранизировать, а смотреть. Снами вовсе не обязательно делиться — это искусство из себя и для себя.
Успех в этом всем доступном искусстве зависит не столько от таланта, сколько от адекватности культурной среды.
В древности сны играли несравненно более важную роль, чем теперь. « Библией дикаря» называл их Леви-Брюль.[118] Борхес считал сны « наиболее древним видом эстетической деятельности».[119] В « Рождении трагедии» Ницше предполагает в снах древних греков « смену сцен, совершенство коих дало бы нам, конечно, право назвать грезящего грека Гомером».[120]
За этими метафорами и поэтическими догадками стоит вполне реальная практика. Все традиционные общества создавали особые благоприятные условия для сновидений. С их точки зрения, мы бездарно и безрассудно транжирим свои ночи, пренебрегая той детально разработанной « экологией сна», которую тысячелетиями развивали и поддерживали архаические культуры.
В Древней Греции больные в поисках исцеления проводили ночи в таинственных храмах Асклепия, необычная атмосфера которых способствовала ярким снам.
В тибетском буддизме к снам относятся как к « ночной работе», исполнять которую помогает особая « сновидческая йога».
Индейским племенам, живущим на Севере-Востоке США, известно особое устройство — dreamcatcher (« сноловка») — обруч с перьями, забранный паутиной из кожаных шнуров. Паутина нужна, чтобы хорошие сны, запутавшись в ней, снились опять, перья же служат своего рода громоотводом для кошмаров. Без такой « ловушки для снов» до сих пор не обходится не один индейский дом. Такую сноловку и я купил на пенсильванском « pow-wow» (индейском фестивале) и повесил, как положено, у кровати.