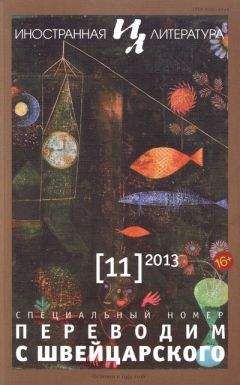Проспер Оливье Лиссагарэ - История Парижской Коммуны 1871 года
Наконец, смрад бойни стал ощущаться самыми неистовыми палачами. На них действовала, если не жалость, то мор. Мириады мух роились вокруг разлагавшихся трупов. Улицы были завалены мертвыми птицами. «Авенир либерал», перепевая хвастовство прокламаций Мак‑Магона, поместила слова Флешье: — Он прячется, но слава его находит. — Скандальная известность выдавала Тюренна 1871 года вплоть до Сены (220). На ряде улиц трупы загромождали тротуары, глядя на прохожих своими невидящими глазами. В Сен‑Антуанском предместье они лежали повсюду грудами, наполовину белые от хлорки. В Политехническом училище трупы занимали площадь в 100х 3 кв. метров. В Пасси, не самом крупном районе казней, возле Трокадеро скопилось 1 100 трупов. Их присыпали тонким слоем земли, но все равно выступали их ужасные профили. «Кто не забудет, — писала «Темп», — даже если видел это всего один раз, площадь, нет, склеп башни Сен‑Жак? Из влажной земли, перевернутой лопатой, показывались головы, руки, ноги и руки. Виднелись профили трупов в мундирах Национальной гвардии, вдавленные в землю. Это было ужасно. Затхлый, зловонный смрад шел от сада, в некоторых местах он становился невыносимым». Дождь и жара ускорили гниение, вновь показались распухшие тела. Слава Макмагона проявлялась слишком хорошо. Газеты испугались. «Этим негодяям, — писала одна из них, — которые нанесли нам так много вреда при жизни, нельзя позволять делать это после смерти». А те, кто подстрекали к кровопролитию, завопили: — Хватит!
«Давайте больше не будем убивать, — писала «Парижская газета», — даже убийц, даже поджигателей. Давайте не будем больше убивать. Мы не просим милости, но передышки». «Хватит казней, крови и жертв», — писала 1‑го июня «Националь». А «Национальное мнение» писала в тот же день: «Обязательна серьезная проверка обвиняемых. Хочется видеть мертвыми только действительно виновных».
Экзекуции убавились, началась уборка трупов. Для этого использовались по всему городу всякого рода экипажи, фургоны, омнибусы. Со времени великих эпидемий Лондона и Марселя не видели таких повозок, груженных человеческой плотью. Эти эксгумации показали, что большое число людей было захоронено заживо. Не погибнув во время расстрела, заваленные грудой мертвецов в общей могиле, они грызли землю, извивались в страшных мучениях. Некоторые трупы извлекались частями. Их следовало было поместить в крытые фургоны, как можно скорее, и отвезти на кладбища с максимальной скоростью, где огромные могилы с известью поглощали эти гниющие массы.
Кладбища Парижа приняли все, что смогли. Жертвы, помещенные бок о бок, без иного покрытия, кроме своей одежды, заполнили огромные траншеи на Пер‑Лашез, Монмартре, Монпарнасе, куда ежегодно совершают паломничество люди для благочестивого поминовения. Другие мертвецы, более несчастные, вывозились за город. Использовались траншеи, выкопанные во время первой осады в Шаронне, Багноле, Бисетре и т. д. «Не надо бояться, что мертвецы восстанут из могил, — писала «Ла Либерте», — нечистая кровь увлажнит почву земледельца, удобрит ее. Почивший во время войны делегат сможет предстать перед своими преданными последователями в полночь. Паролем будет поджог и убийство». Женщины у края этой траурной траншеи стремились опознать останки. Полиция поджидала, не выдаст ли их горе, чтобы арестовать «членов семей инсургентов».
Захоронение столь большого количества трупов вскоре стало затруднительным, и их стали сжигать в казематах фортификаций, но из–за плохой вытяжки тела сгорали не полностью и превращались в бесформенную массу. На холмах Шомон трупы громоздились огромными грудами, обливались бензином и сжигались на открытом воздухе.
Массовые убийства продолжались вплоть до первых дней июня (221), а казни в чрезвычайном порядке до середины этого месяца. В течение продолжительного времени разыгрывались таинственные драмы в Булонском лесу (222). Точное число жертв этой Кровавой недели вряд ли станет известно. Глава военной юстиции допускал 17 000 расстрелянных (223), муниципальный совет Парижа оплатил расходы на похороны 17 000 трупов, но большое число людей убили или сожгли за пределами Парижа. По крайней мере, цифра в, скажем, 20 000 не будет преувеличением.
Во многих боях было немало погибших, но они пали, во всяком случае, в пылу сражения. Наш век еще не видел убийств в таком масштабе после сражения. Равного этому не было еще в истории боев наших гражданских войн. Варфоломеевская ночь, июнь 1848 года, 2‑е декабря являются все лишь эпизодами по сравнению с майским кровопролитием. Даже великие палачи Рима и современности бледнеют перед герцогом Мажентой. Одни лишь гекатомбы азиатских завоевателей и праздники Дагомеи моги бы дать некоторое представление об этой резне пролетариев.
Таковы были репрессии «по закону и для закона». И в ходе этих зверств, несравненно худших, чем зверства болгарского типа, буржуазия, воздевая окровавленные руки к небу, пыталась настроить весь мир против этих людей, которые после двух месяцев во власти и гибели тысяч своих сторонников, пролили кровь шестидесяти трех пленников.
Все власть имущие прикрывали убийства несчастных жертв громом аплодисментов. Священники, освещавшие убийства, праздновали победу торжественным богослужением, на котором присутствовала вся Ассамблея. Правление иезуитов еще предстояло.
XXXIII. Судьба пленных
Дело справедливости, порядок, гуманизм и цивилизация восторжествовали.
(Выступление Тьера перед Национальной ассамблеей)Счастливые мертвые! Им не надо было тащиться на Галгофу для пленных.
Из числа массовых расстрелов можно представить себе количество арестов. Они производились в ходе яростных налетов и влекли за собой задержание мужчин, женщин, детей, парижан, провинциалов, иностранцев — людей обоих полов, всех убеждений и социальных слоев. Всех квартиросъемщиков, прохожих сбивали в одну кучу. Подозрения, слова, сомнения было достаточно, чтобы быть схваченным солдатами. С 21‑го по 30 мая было задержано, таким образом, 40 000 человек.
Эти пленные выстраивались в длинные шеренги, порой, свободные, порой, как и в июне 1848 года, связанные веревками, чтобы состоять в компактной группе. Те, кто отказывались идти, подгонялись штыками, а в случае упорства, расстреливались на месте, порой они привязывались к хвосту лошади (224). Перед церквями в богатых кварталах пленников ставили на колени с обнаженными головами рядом с толпой бесчестных лакеев, модниц и проституток, оравшей: — Смерть! Смерть! Дальше не идите, расстреляйте их здесь! — На Елисейских полях они попытались прорваться сквозь строй конвоиров, чтобы почувствовать вкус крови.
Пленных гнали в Версаль. Галифе поджидал их в Ла Муэтте. В городе он сопровождал шеренги, останавливаясь у окон аристократических клубов, чтобы сорвать аплодисменты и приветственные возгласы. У ворот Парижа он взыскивал свою десятину. Проходил мимо рядов пленных и с видом голодного волка говорил кому–нибудь: — Ты выглядишь образованным, выйди из строя. — У тебя часы, — обращался он к другому пленнику, — должно быть, ты функционер Коммуны — и тоже выводил его из строя. 26‑го мая он выбрал только из одного конвоя 83 мужчин и трех женщин, выстроил их вдоль укрепленного вала и приказал расстрелять (225). Затем он обращался к товарищам расстрелянных пленников: — Меня зовут Галифе. Ваши газеты в Париже достаточно позлословили в мой адрес. Теперь я отомщен. В воскресенье 28‑го мая он говорил: — Пусть светловолосые арестанты выйдут из строя. — Вышло 111 пленников. — Вы, — продолжил Галифе, — знакомы с июнем 1848 года. Вы более виновны, чем другие. — Он приказал сбросить их трупы с укрепленного вала.
После расстрелов конвои вступили на дорогу в Версаль, зажатые между двумя шеренгами верховых конвойных. Все выглядело так, словно население города гнали свирепые орды. Юноши, седобородые старики, солдаты, дэнди представляли разные социальные слои. Самые изящные и самые грубые арестанты смешались в одном потоке. В потоке имелось много женщин, некоторые в наручниках. Шею одной из женщин с ребенком обхватили испуганные маленькие ручонки. Другая брела со сломанной рукой в блузке, забрызганной кровью. Третья, обессиленная, опиралась на руку своей более крепкой соседки. Еще одна женщина с величавым видом преодолевала боль и унижения. Эта женщина из народа, которая после доставки хлеба в окопы и утешения умирающих и слабых духом — «устала от рождения несчастных душ» — желала смерти как освобождения.
Их поведение, вызывавшее восхищение зарубежной прессы (226), приводило версальцев в ярость. «Видя конвои мятежных женщин, — писала «Фигаро», — поневоле чувствуешь жалость, но укрепляешься теми мыслями, что бордели столицы были открыты для национальных гвардейцев, которые покровительствовали им, и что большинство этих дам обитало в таких учреждениях».