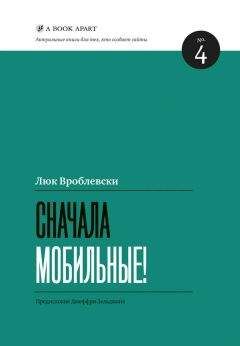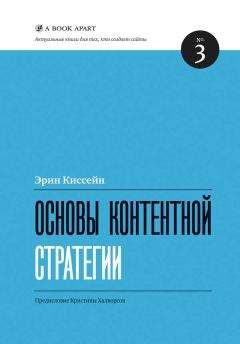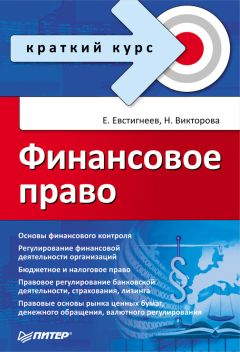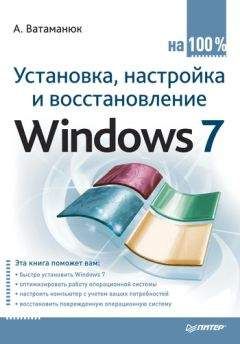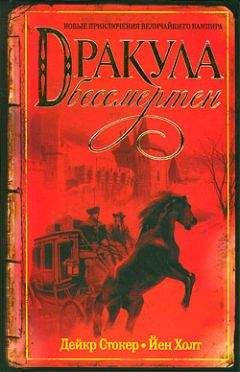Настоящий Дракула - Макнелли Рэймонд Т.
Петре Испиреску [57] одним из первых среди собирателей крестьянских преданий начала XIX в. сосредоточил особое внимание на легендах о Дракуле. Простой мастеровой в одной бухарестской печатне, Испиреску не обладал ни специальной выучкой, ни навыками, ни знаниями в фольклористике, чтобы осилить это титаническое начинание. Вместо того чтобы попытаться понять бытовавший в окрестностях замка крестьянский диалект, он просто-напросто записал местные предания на простонародном жаргоне, который усвоил в родном бухарестском предместье, допустив множество ошибок и несуразностей.
Крестьянские предания о Дракуле с гораздо большей точностью изложил Рэдулеску-Кодин, уроженец города Кымпулунг-Мусчел в уезде Арджеш, том самом, к которому относятся окрестности знаменитого замка. Будучи деревенским учителем, Рэдулеску-Кодин хорошо знал крестьянский диалект. В последние годы Бухарестский институт [этнографии и] фольклора организовал в окрестностях замка похвальные во всех отношениях фольклористические исследования и последующую строго-научную оценку собранного материала. Наиболее примечательна в этом цикле исследований работа группы ученых во главе с Михаем Попом, в те времена директором института фольклора и международно признанным авторитетом по данному предмету, который удостоил нас, соавторов, тесным сотрудничеством. Самую лучшую из опубликованных на сегодня работ, посвященных сказанию о замке Дракулы, написала Джорджета Эне, защитившая на эту тему диссертацию, а ее научным руководителем был Михай Поп. Дж. Эне — единственная, кто упоминает осаду замка турками, самоубийство жены Дракулы и его побег через горы в Трансильванию, ни в каких других источниках эти сведения не задокументированы.

Герой Дракула: памятник Дракуле, установленный по инициативе Национального туристического бюро Румынии для привлечения туристов в знаменитый замок на реке Арджеш. Стены замка были укреплены, к замковому комплексу вверх по склону ведут ступеньки. Памятник находится в деревне Копыцынени. Фото соавторов
В других связанных с биографией Дракулы местах — таких как Снагов, Тисмана, Бухарест, Сибиу, Бистрица, Тыргушор, Медиаш, маленькие деревеньки вроде Гергени и многие трансильванские городки, а также места его сражений на дунайских берегах — никакие сколько-нибудь основательные фольклористические исследования пока еще не начинались. А жаль, потому что, если провести такое же всестороннее обследование деревенек вокруг Снагова, какое проводилось в окрестностях замка Поенари, могут обнаружиться новые важнейшие находки, способные пролить свет на загадки гибели и погребения Дракулы. И тем более насущны подобные исследования, что в условиях индустриализации Румынии, исхода молодежи из сельских мест и вымирания старожилов отыскивать истинных «сказителей» чем дальше, тем будет труднее. Проблему поиска осложняет принятое румынскими властями решение уничтожить сельские коммуны ради расширения сельскохозяйственных угодий. Намеренное истребление богатейшего пласта деревенского культурного наследия во имя индустриализации не заслуживает никакого иного названия, кроме как кощунство.
Фигура Дракулы, как она обрисована в обширном собрании румынского фольклора, представляет разительный контраст с теми двумя образами, которые сложились в рассмотренных выше немецкой и русской традициях, — несмотря на многочисленные сюжетные совпадения. Конечно, румынский образ резче контрастирует с немецкими преданиями, где Дракула выведен чистым безумцем, который налево и направо бесцельно пытает и истребляет людей. Румынский Дракула куда ближе к образу, описанному в докладе Курицына: он — правитель, который стоит на страже закона, жестоко карает воров, лгунов, лодырей и прочую публику, так или иначе обманывающую государство. Он — разумный деспот, он старается укрепить централизованную власть и потому расправляется с непатриотичными боярами, которые не желают подчиниться его воле и сеют анархию в его государстве. Кроме того, многие преступления Дракулы могут быть оправданы по целому ряду соображений. Благодаря своей антибоярской позиции Дракула в глазах крестьян выглядит социальным уравнителем, фигурой наподобие Робин Гуда, поскольку отбирает добро у богатых и раздает бедным. В оправдании жестоких кар для неверных жен просматривается мощный нравственный подтекст этих историй (что несколько расходится с психотипом румынского народа, который, подобно французам, ценит «вино, женщин и песни», как сформулировал эту прекрасную триаду Иоганн Штраус в названии своего вальса). И даже сожжение попрошаек, нищих и убогих находит оправдание в глазах крестьян — этим господарь Дракула избавляет свою страну от лишних ртов и сомнительных личностей, которых приходится кормить во времена войн. Но более всего ценились его подвиги в борьбе против немцев и турок, поскольку повышали патриотическое самосознание народа на заре эпохи национальных государств. Как бы там ни было, в преданиях румынских крестьян мотивы закона и справедливости помогали выковывать из Дракулы национального героя. В этом смысле с конца XVIII по XIX в. крестьянская дракулиана служила мощным подспорьем румынским историкам в их поисках героических и справедливых предвозвестников, помогающих проложить путь к установлению независимого румынского государства. Переложение разговорного языка крестьян, грубого, чуждого грамматике и лексически скудного, на письменный румынский язык представляло собой задачу неимоверной сложности.
По любопытному совпадению первое беллетристическое сочинение на этом новом литературном румынском языке, автором которого стал Ион Будай-Деляну (1760–1820), посвящалось не кому иному, как Дракуле. Хотя автор дал своей эпической поэме обманчивое название «Цыганиада», она повествует о том, как Дракула во главе цыганской армии воевал против турок. Рукопись произведения, почти столетие пребывавшая в забвении, была опубликована только в 1875 г.
Ион Будай-Деляну родился в краях, не столь отдаленных от замка Хуньяди в Хунедоаре, обучался в трансильванской греко-католической семинарии, далее — на факультете философии Венского университета (Вена тогда переживала самый расцвет эпохи Просвещения XVIII в.), продолжил образование в университете Эрлау в Германии, где получил докторскую степень. Позже поселился во Львове, принадлежавшем в те времена Польше, где и завершил свое выдающееся произведение. В работе над поэмой Будай-Деляну перелопатил множество старинных архивов, долгое время пылившихся вне поля зрения историков, и обнаружил сказания о Дракуле, написанные на немецком, церковнославянском, латинском и греческом языках. Это оказалось очень кстати, поскольку отвечало желанию Будай-Деляну отыскать в прошлом Румынии какого-нибудь выдающегося героя, который более всех других заслуживал бы быть увековеченным — подобно тому, как увековечены великие герои Греции в «Илиаде» Гомера, — и нашел самую подходящую кандидатуру в личности Дракулы. Однако не захотел, чтобы его герой под этим прозвищем фигурировал в поэме, поскольку считал, что немецкие клеветники слишком сильно замазали его грязью, и потому предпочел другое прозвище — Цепеш, т. е. Колосажатель, которое запустили в оборот турки, а румынские летописцы позже подхватили. В поэме Будая-Деляну князь Цепеш предстает перед нами никаким не злодеем и извергом, а великим героем, одним из первых в пантеоне национальных героев Румынии, который сражается с турками-османами, с боярами-предателями и с легионами Сатаны, во главе с пестрой армией, в которой бок о бок сражались цыгане и ангелы, в сущности, воплощавшие силы добра в борьбе с силами зла.
Изложенная сочным выразительным языком, не имевшим себе равных до самого XIX в., сочетавшая различные формы юмора от сатиры до едкой иронии с политической философией, «Цыганиада» обрушивалась с критикой на деспотизм и абсолютную монархию. В этом смысле, а также в недоверии к простому человеку поэма определенно была вольтерьянской, а нападки на бояр и на устои власти в целом придавали «Цыганиаде» революционное звучание. В этом ключе автор использовал фигуру Дракулы в целях, прямо противоположных тем, какие преследовал русский нарратив (Ф. Курицына), направленный на оправдание абсолютной монархии.