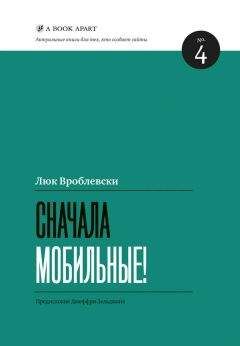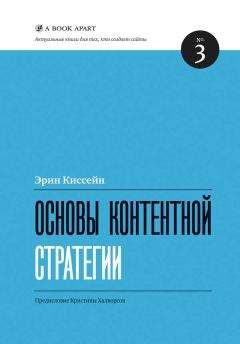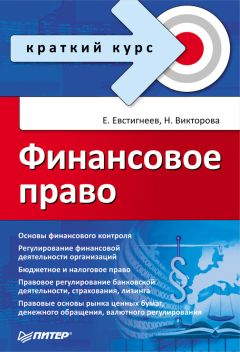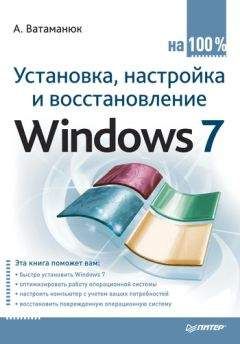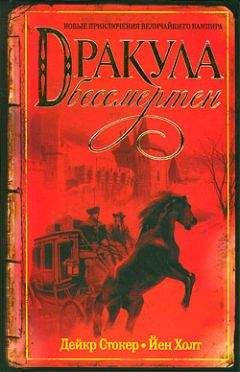Настоящий Дракула - Макнелли Рэймонд Т.
Не менее поучительный пример представляли акты мщения Дракулы католической церкви и ее многочисленным духовным орденам, которые, как он небезосновательно считал, по сути были «папскими анклавами» в теле его страны и подрывали верховенство его собственной власти, — точно такую же угрозу своей власти великий князь Московский видел в лице католического духовенства и монахов, которые в его государстве обслуживали интересы католического Польско-Литовского королевства. Хотя Османская империя в те времена еще не представляла непосредственной опасности для Московского царства ввиду его географической отдаленности от берегов Черного моря, Курицын тем не менее постарался заострить внимание на Крестовом походе Дракулы против неверных, поскольку видел в нем удобный прецедент для освобождения Святой Руси от монголо-татарского ига. А поскольку татары занимали Крым, успешное отвоевание полуострова открыло бы перед русскими государями безграничные возможности для будущей экспансии.
Кроме того, можно предположить, что Фёдора Курицына и его брата Ивана по прозвищу Волк (тоже дьяка и дипломата на службе у Ивана III) особенно впечатлила манера Дракулы строить отношения со своей государственной церковью (православной), в частности его старания подчинить всемогущих епископов и настоятелей своей княжеской воле (в русском государстве дела пока обстояли совсем иначе). Братья Курицыны старались исподволь насаждать этот полезный опыт на русской почве, играя на его соблазнительности, в расчете на долгосрочные результаты. Они объявляли себя приверженцами несколько туманного религиозного учения, которое проповедовал некий иудей из Новгорода Схария, желавший обратить русский народ к главным догматам иудаизма [54]. Приверженцы этого учения — иудействующие — отрицали божественность Христа, отвергали Троицу, старались возродить обрядность и иконоборство, хотя настойчиво не рекомендовали делать обрезание из опасения, что их могут разоблачить церковные власти. Но теологические полемики мало занимали Фёдора Курицына, главный интерес для него представляло другое — что иудействующие восстали против политического всевластия Русской православной церкви и ее церковных привилегий. Для привлечения в свои ряды сторонников иудействующие начали критиковать многочисленные злоупотребления, которые позволяли себе высшие церковные иерархи, лицемерие и безнравственное поведение отдельных епископов и настоятелей; изобличать монастыри, которые мало пеклись о праведных трудах, для которых предназначались. Статс-секретарь Курицын вскоре осознал, что в православной стране, не склонной к теологическому мышлению, в протесте иудействующих гораздо более значимы его общественный и политический аспекты, нежели религиозная составляющая. Глава Русской православной церкви и высшее духовенство, по сути, образовали государство в государстве, и оно соперничало за власть с великим князем. В этом смысле переход Ф. Курицына на позиции иудействующих более всего тревожил Церковь, поскольку это грозило подорвать ее собственную власть (Церковь объявила это движение «новгородско-московской ересью»). Со своей стороны, Курицын, теперь уже в ранге управляющего посольскими делами (фактически «министра иностранных дел»), усмотрел в движении иудействующих удобный инструмент, который поможет ему убедить государя, по натуре склонного к деспотизму, решительно окоротить власть Русской церкви и таким образом приобрести власть самому.
В этом отношении глава посольского ведомства действовал весьма искусно и вскоре приобрел себе союзников в непосредственном семейном окружении Ивана III. Еще в 1484 г., находясь по дипломатическим делам в Сучаве, Курицын завоевал дружеское расположение молдавского господаря Стефана Великого. К тому же он сам горячо поддерживал союз Молдавии с Русским государством — в свете всего этого разве не естественным шагом было со стороны Курицына обратиться к невестке Ивана III Елене Стефановне, прозванной в Москве Волошанкой, чей брак был устроен при его посредничестве? Тем более что незадолго до того она родила сына Дмитрия, который стал вторым в линии престолонаследия после ее супруга Ивана Молодого. Курицын пользовался при дворе Стефана Великого таким огромным авторитетом, что Елена охотно прислушивалась к его речам об огромных выгодах, которые обращение в учение иудействующих сулит ее супругу Ивану и сыну Дмитрию, поскольку позволит ограничить власть церковных иерархов. Курицын сумел убедить Елену, и она стала его активной сторонницей.
Последующие события как нельзя лучше сыграли на руку Курицыну. В феврале 1490 г. неожиданно скончался сын великого князя Иван Молодой, что спровоцировало жестокий кризис, угрожавший самим основам власти. Перед Иваном III встал мучительный вопрос, кого назначить в свои наследники, — это право оспаривали две противоборствовавшие партии при княжеском дворе. Партия Елены Волошанки желала утвердить наследником престола сына Ивана Молодого Дмитрия (прозванного Дмитрием Ивановичем Внуком), партия во главе со второй супругой Ивана III, честолюбивой племянницей последнего константинопольского императора Софьей Палеолог, ратовала за права престолонаследия для своего сына Василия. Так кому наследовать престол? Столкнувшись в этом наиважнейшем деле с дилеммой, какой прежде не возникало в истории Руси, великий князь Московский разрубил этот гордиев узел, выбрав в наследники и соправители своего внука Дмитрия, сына Елены Волошанки, — и это стало великим триумфом для дела Фёдора Курицына как поборника иудействующих.
Не вызывает сомнений, что могущественный глава дипломатии и его брат Иван Волк активно участвовали в кознях против партии Софьи Палеолог, ибо понимали: если официальным наследником престола станет Дмитрий (в те поры 17-летний), они вместе с Еленой Волошанкой смогут вертеть им как захотят. Успех их козней доказывал, что великий князь Московский и сам склонился к точке зрения Курицына и Елены, что власть православной церкви следует серьезно ограничить в интересах централизации княжеской власти. Помимо того, Фёдор Курицын, безусловно, расписал своему государю все выгоды, которые тот сможет извлечь из конфискации огромного недвижимого имущества Церкви; что он сможет учредить регулярную армию и чиновничий аппарат, в которых отчаянно нуждалось его государство, чтобы соответствовать требованиям времени. Среди доводов Курицына наибольшее впечатление на государя, конечно, произвели начатки учения о «божественном праве королей» (эта теория управления государством приобрела широкое распространение лишь два века спустя).
Представление о «божественном» происхождении княжеской власти Курицын, видимо, почерпнул в представлениях Дракулы, что сам Господь Бог заповедал помазание — обряд, при котором государь во время коронации помазывается миром или елеем с целью преподания ему даров Святого Духа, нужных для управления страной, — в силу чего государь в некотором смысле приобретает божественность. А значит, судить его деяния вправе один лишь Господь Бог. Эти посеянные Курицыным семена упали на благодатную почву — великий князь Иван III был более чем заинтересован в укреплении централизованной власти государства в ущерб власти церковной и охотно воспринял представление о собственной «божественности», в противовес аргументам Софьи Палеолог, которая поддерживала православную церковь.
Победа идейного наследия Дракулы была символически закреплена пышной церемонией в Успенском соборе Кремля — в признание законным наследником престола Дмитрия, который был воспитан в традициях сторонников его матери Елены, приверженных учению иудействующих. А Софью Палеолог вместе с сыном Василием Иван III в знак опалы отправил в домашнее заточение.
Увы, Фёдор Курицын и его союзница Елена Волошанка недооценили свою амбициозную противницу Софью, ее несгибаемость и талант к интриганству. Она взяла блестящий реванш, искусно распуская слухи, что Елена и Курицын якобы плетут заговор против уже престарелого Ивана III и замышляют опоить его отравой, дабы приблизить правление его юного внука Дмитрия. Иван III, в ту пору уже страдавший от болезни, поверив наветам, проникся недоверием к невестке и внезапно изменил свое решение. Он велел взять под арест Елену и Дмитрия, когда со дня коронации его внука не прошло и четырех лет, а Софью освободил из заточения и назначил своим наследником ее сына Василия.