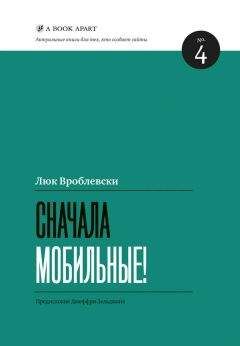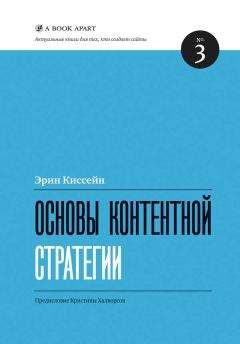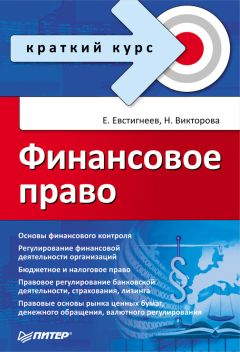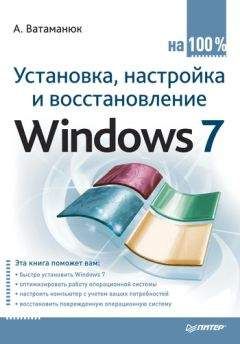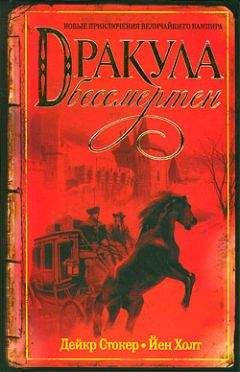Настоящий Дракула - Макнелли Рэймонд Т.
Судя по некоторым сведениям, Елена была убита в своей темнице в 1504 г. А ее сын, злосчастный Дмитрий Иванович Внук, протомился в заточении еще пять лет и умер при обстоятельствах, так и не получивших удовлетворительного объяснения. Такой же тайной окутан конец Фёдора Курицына и его брата Ивана Волка, а также прочих приверженцев ереси иудействующих — в 1501 г. они внезапно исчезли с политической сцены Московского княжества. Их предал анафеме особый собор, созванный в 1503 г. могущественными иерархами православной церкви.
Хотя Русская православная церковь во всей полноте сохраняла свою власть до радикальных реформ Петра I, отраженная в «Сказании» Ф. Курицына политическая философия Дракулы продолжала смущать умы русских государей, вступавших на московский престол вслед за Иваном III. Особенно сильно она повлияла на расстроенный рассудок внука Ивана III царя Ивана IV Грозного (1533–1589). Можно предположить, что «Сказание о Дракуле воеводе» ему читали еще в детстве, когда психика юного наследника престола была особенно восприимчива. Как рассказывают нам биографы Ивана Грозного, главной забавой его детства было мучить животных и в особенности обрывать перья у птиц — эти омерзительные причуды слишком хорошо перекликаются с теми, которым, как говорится в «Сказании» Курицына, предавался в вишеградском заточении Влад Дракула. Параллели прослеживались и позже: после того как в 1558 г. [55] была отравлена его любимая жена Анастасия Романовна, Иван Грозный преследовал бояр, которых считал нелояльными своей особе, и подвергал их особенно жестоким пыткам, определенно навеянным теми страницами «Сказания», где Курицын живописал злодеяния Дракулы. Подобно последнему, Иван Грозный тоже отбирал на службу себе новых людей, послушных его воле и исключительно ему преданных. И даже его одиозные опричники, его личная гвардия, повинная в большинстве самых гнусных преступлений Ивана Грозного, и те были почти скопированы с армашей, которых нанимал для палаческих дел Дракула. Кроме того, слишком надменных, не выказывавших должного почтения послов Иван Грозный карал точно такой же мерой, что и валашский господарь, — прибивая гвоздями к их головам головные уборы. А утверждавшиеся Дракулой нормы дипломатического протокола нашли отражение в «Летописной повести о Казанском взятии XVII века». По примеру Дракулы Иван Грозный широко применял казнь через посажение на кол по отношению к боярам-изменникам и прочим политическим противникам — до него такой вид казни не имел распространения в Московии. И такую же, как Дракула, нетерпимость Иван Грозный проявлял к духовенству и монашествующим, кто попирал моральные нормы Церкви, — их он тоже подвергал наказаниям и в том числе сажал на кол. Современники замечали, что Иван Грозный любил наблюдать предсмертные мучения казнимых, которых подвергали самым изуверским пыткам, — тоже как Дракула.
Курицынский нарратив о Дракуле какое-то время продолжал служить поучительным внутренним документом двора, но за столетия он утратил свою актуальность. И совершенно перестал отвечать духу времени при царе Петре Великом, когда Россия взяла курс на прогрессивные перемены, чтобы в качестве великой державы выступать на европейской политической сцене. С течением времени русский нарратив о Дракуле окутался аурой легенды и даже приобрел мистический флер немецких баек о валашском господаре. Начиная с XVIII в. произведение Курицына начало распространяться в разнообразных народных, литературных и даже в религиозных сочинениях.
В противоположность чудовищу, каким Дракула изображается в немецких и турецких сочинениях, в отличие от образа жестокого, но справедливого правителя, который эксплуатировали в политических целях сменявшиеся на троне русские государи, в румынском народе сложился куда более благосклонный взгляд на личность валашского господаря. Героические черты чем дальше, тем больше затмевали и вытесняли все прочие намешанные в этой личности особенности. В некий момент дошло даже до того, что западные читатели, приученные к литературному образу Дракулы-вампира, и румынская аудитория, на чьих глазах образ Дракулы-господаря постепенно обожествлялся, некоторое время пребывали в уверенности, что речь идет о двух разных персонах. Глубина этого «раздвоения» Дракулы особенно подчеркивалась его разным именованием: на западный лад его называли Дракулой, в Румынии — Владом Цепешем (Колосажателем). Сильнее всего эта двойственность сбивает с толку туристов, которые приезжают в Румынию на экскурсии по связанным с Дракулой местам. Когда особо пытливый турист начинает доискиваться дополнительных сведений о Дракуле, Национальное туристическое бюро в лице своих сотрудников неизменно уточняет: «А, так вы имеете в виду Влада Цепеша!»
Источники румынских легенд о Дракуле следует искать исключительно в устном народном творчестве, поскольку до XVI в. письменного румынского языка не существовало — при Дракуле в придворном обиходе был только церковнославянский язык, на котором совершались богослужения. Подлинными авторами румынских преданий о Дракуле в подавляющем большинстве были крестьяне, населявшие те края в Трансильвании и Валахии, где Дракула какое-то время проживал, где он сражался с врагами и где предавался молитвам. Как уже отмечалось, большинство населения Трансильвании говорило на румынском языке. Жившие бок о бок с саксонцами румыноговорящие трансильванцы, безусловно, слышали анекдоты и байки о Дракуле и вставляли их в свои собственные саги-дракулианы. Аналогичные предания о подвигах Дракулы фольклористы недавно собрали в регионах с этнически смешанным населением, в том числе в Болгарии и Сербии.
В сущности, баллады о Дракуле создавались точно таким же манером, что и предания других народов: барды, менестрели, поэты из крестьянского сословия облекали свои рассказы в стихотворную форму и исполняли нараспев, чаще всего под собственный аккомпанемент на грубо сработанных деревянных музыкальных инструментах вроде волынки или свирели, в дни празднования Пасхи или чествования особо почитаемых святых. Народные пииты расцвечивали свои сочинения местным колоритом, вставляя упоминания знакомых слушателям мест или знаменательных событий. При этом точные даты смены правителей, как и точные указания мест, где произошли те или иные события, редко когда сохраняются в коллективной народной памяти и упоминаются в народных преданиях. С течением времени при многократных повторениях и передаче от поколения к поколению народные предания неизбежно и естественно приукрашивались новыми подробностями. Тем не менее румынские народные предания о Дракуле послужили бесценными источниками для нашего исследования, поскольку помогли нам прояснить множество темных пятен в биографии нашего героя, на предмет которых отсутствуют какие-либо исторические документы и свидетельства.
Хотя историку следует соблюдать известную осторожность при работе с фольклорными источниками, они могут стать вполне законным инструментом познания. Думается, что у нас больше причин доверять коллективной народной мудрости, поскольку простой люд бывает разборчивее в выборе достойных запоминания фактов/событий, чем вельможи, дипломаты и короли в своих мемуарах, где они не прочь приврать, чтобы приукрасить или подчеркнуть свою роль в исторических событиях. Что касается богатого фольклорного материала о Дракуле, то мы хотим особо отметить, что румынский народ с наибольшим благоговением хранит память о нем, хотя в истории Румынии бывали правители более выдающиеся, совершившие больше славных дел и правившие куда как дольше, чем Влад Дракула, три срока правления которого суммарно длились едва ли больше шести лет.
«Сказ о замке Дракулы» впервые появился в старинной исторической хронике, названной по имени ее предполагаемого автора Кантакузино [56]. Ввиду скудности письменных источников о Дракуле самый первый упомянувший его летописец вставил в свою хронику рассказ о возведении замка Дракулы, используя язык румынского народа в церковнославянском написании, все еще бытовавшем в XVII в. в Валахии. Кантакузино пересказывает также историю о наказании Дракулой горожан Тырговиште за то, что они живьем закопали его брата Мирчу. «По смерти господаря Мирчи к власти пришел господарь Влад, чье прозвище было Цепеш. Этот последний построил монастырь Снагов и замок Поенари. Он подверг жителей Тырговиште суровому наказанию за великую несправедливость, совершенную ими над одним из его братьев. Исполнить наказание он отправил своих дружинников, и те налетели в самый день Пасхи и похватали мужей с их женами и с их сыновьями и дочерями, и в чем те были, в их лучших праздничных одеждах, погнали к замку Поенари и заставили трудиться до тех пор, пока их одежды, превратясь в лохмотья, сами собой не спали с них». Эта последняя подробность не упоминается ни в одном историческом документе того времени. Первым, кто побывал в тех местах и на румынском языке записал историю строительства легендарного замка Поенари, был тогдашний глава Церкви митрополит Неофит. В 1747 г. он отправился в поездку в верховья реки Арджеш и обнаружил заброшенную крепость Дракулы. Он же на основе преданий местного крестьянства записал еще один рассказ о том, как крепость возводилась рабским трудом бояр.