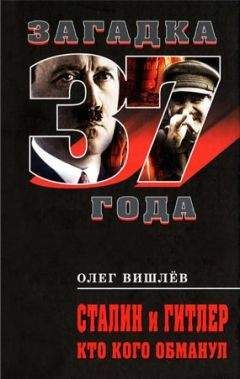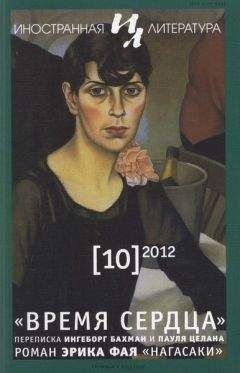Ингеборг Фляйшхауэр - Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938-1939
По словам Риббентропа, Гитлер «поначалу медлил и колебался».
Нет никаких свидетельств и о том, кто и когда побудил Риббентропа к подобным действиям. Предположение, что это произошло непосредственно после речи Сталина, то есть в чрезвычайно трудные дни оккупации Праги, кажется сомнительным из практических соображений. Скорее, подходит период после окончания XVIII съезда. Тогда Шуленбург сразу же приехал в Берлин для личного доклада. Неизвестно, выслушал ли его Риббентроп. Все же предположение о том, что свои знания Риббентроп получил от Шуленбурга прямо или косвенно (например, через Клейста), можно считать вполне обоснованным.
Действительно серьезно Риббентроп отнесся к содержанию речи Стал>А<а, вероятно, значительно позже, в те августовские дни, когда усилия немцев к сближению с СССР неожиданно дали результаты. Готовясь к поездке в Москву для подписания германо-советского договора о ненападении, Риббентроп взял текст речи с собой и на переговорах несколько раз ссылался на нее, делая вид, что он и Гитлер восприняли ее как приглашение к переговорам[395].
По словам советника посольства Андора Хенке, утром 24 августа, на небольшом приеме, последовавшем за подписанием договора, Молотов «поднял бокал за господина Сталина, заметив при этом, что именно Сталин своею речью в марте с.г., правильно понятой в Германии, подготовил поворот в политических отношениях»[396]. Но как продемонстрировал Э.Х. Kapp[397], в этот момент мнимого внешнеполитического триумфа «желание польстить Сталину, назвав его отцом только что успешно заключенного договора, было настолько очевидным, что сказанное не стоит воспринимать слишком серьезно».
Неизвестно, обратил ли кто-нибудь еще внимание министра иностранных дел Германии на возможное значение речи Сталина. По мнению некоторых, не названных представителей МИД, опрошенных Де Виттом Пулом в 1946 г., Москва «неофициально» уведомила Берлин о том, что выступление Сталина было адресовано германскому правительству[398]. Однако речь, вероятно, шла, если оставить в стороне сомнительные разведывательные источники[399], о слухах, рожденных из отрывочных сведений относительно усилий германского посольства в Москве, направленных на подготовку политического сближения.
По-видимому, и «секретный доклад», составленный сотрудником партийного аппарата и бюро Риббентропа Рудольфом Ликусом[400] 1 апреля 1939 г.[401], то есть во время пребывания Шуленбурга в Берлине, был результатом неправильно понятого (подслушанного) сообщения или же целенаправленной дезинформации. Согласно Ликусу, нарком обороны маршал Клемент Ефремович Ворошилов «недавно... в беседе с супругой германского посла отрицательно (высказывался) о политике западных держав (и заметил)... что отношения между Германией и Советской Россией могли бы быть поставлены на иную основу». Но ведь Шуленбург не был женат, подобное заявление наркома обороны было просто немыслимо.
Правда, характер слухов и более поздние утверждения Риббентропа указывают на то, что рекомендации германского посольства и особенно усилия посла в Берлине все-таки в конце концов не прошли бесследно. Под воздействием пассажей речи Сталина, относящихся к Германии, в Берлине постепенно укрепилось мнение, что Сталин «не терял из виду пути к германо-советскому взаимопониманию»[402].
Взгляд Москвы на оккупацию Чехословакии
По свидетельству московских очевидцев, оккупация Чехословакии (15 марта 1939 г.) и создание Протектората Чехии и Моравии (16 марта) «шокировали, но, вероятно, не застали совсем врасплох»[403] Советское правительство. Оно не испытало того потрясения, которое ощутили западные государственные деятели в связи с тем, что, захватив Богемию и Моравию, рейх «сбросил маску» и перешел от «политики национальной экспансии к политике агрессий, от требований национального единства к воинствующему империализму»[404]. Уже во время судетского кризиса Литвинов заявил германскому послу, что Москве хорошо известно, что речь идет вовсе не об осуществлении прав немецких меньшинств, — Германия просто хочет «уничтожить всю Чехословакию... завоевать страну»[405].
Не произвело на Советское правительство никакого впечатления и наступившее в Париже и Лондоне осознание того, что после оккупации Праги[406] Мюнхенское соглашение больше не существует[407], что Гитлер растоптал надежды западных демократий[408]. В оккупации Праги германским вермахтом оно видело «полное нежелание Гитлера считаться с Англией или Францией и уважать взятые на себя обязательства»[409].
Кроме того, советская сторона с удовлетворением наблюдала за тем, как подобный разрыв Мюнхенского соглашения наконец-то вывел широкие слои Англии вместе с ее премьер-министром из летаргии умиротворения[410].
И все же оккупация Праги причинила Советскому правительству известное беспокойство; она привела к быстрому изменению баланса политических и экономических сил на востоке Центральной Европы, которое не могло не затронуть советские интересы. Тревогу, пожалуй, смягчил тот факт, что Гитлер, создав венгерскую буферную зону в Закарпатской Украине, счел возможным не перемещать свои войска к советской границе. Германия и СССР по-прежнему не имели общей границы, которая, как это показывала германо-польская граница, могла стать неспокойной.
Когда нарком иностранных дел Литвинов с некоторым, как сообщало германское посольство, удовлетворением[411] принимал германские «объяснительные ноты» от 16 и 17 марта, по-видимому, в этом чувстве прежде всего отразилось облегчение Советского правительства в связи с подобным решением опасного вопроса Закарпатской Украины. Ответная нота СССР, врученная германскому послу наркомом иностранных дел поздно вечером 18 марта в Москве[412] и советским полпредом министерству иностранных дел 19 марта в Берлине и в тот же день распространенная ТАСС и переданная по советскому радио, представляла собой недвусмысленное и решительное, но одновременно сдержанное потону осуждение немецкой акции. Действия германского правительства, говорилось в подписанной Литвиновым ноте, были «произвольными, насильственными, агрессивными»; они грубейшим образом попрали «принципы самоопределения народов», «создали... опасность всеобщему миру... нарушили политическую устойчивость в Средней Европе... и нанесли новый удар чувству безопасности народов». От имени Советского правительства нарком заявил, что Советское правительство не может признать действия германского правительства правомерными.
Нота Советского правительства, которую в Москве посчитали «резкой»[413], а за рубежом даже «чрезмерно резкой»[414], была адресована германскому послу. В ней со ссылкой на нормы международного права осуждались действия Германии, но вместе с тем содержались заверения в глубоком уважении к послу графу фон Шуленбургу. Как и во время судетского кризиса, посол и теперь, в связи с вручением ноты, в беседе с Литвиновым попытался выяснить дальнейшие намерения Советского Союза. Однако и на этот раз он получил лишь уклончивые ответы, недостаточные для надежного сдерживания Гитлера. Резюмируя в отчете Типпельскирху (ОКВ) содержание разговора между Шуленбургом и Литвиновым, генерал Кёстринг писал, что Советский Союз будет «и далее на бумаге действовать заодно с нашими противниками... Охотно вместе кричать, но не воевать»[415].
Посол же подчеркнул принципиальный характер ноты, в которой говорилось о том, «что Советское правительство не может признать законным государственно-правовые изменения в Чехословакии, ибо они осуществлены без всенародного референдума»[416]. В своем отчете министерству иностранных дел он пытался смягчить тон ноты Литвинова, которая-де «выражала мнение Советского правительства и не содержала протеста»[417]. Желая предупредить неправильный вывод об односторонней уступчивости Советского«правительства в связи с германской акцией, Шуленбург одновременно подчеркнул «практическое значение» ноты, которое якобы состояло в том, «что и впредь Советское правительство не станет действовать автономно, а будет учитывать поведение Англии, Франции и Америки».
Всем содержанием своих отчетов посол пытался не допустить прекращения переговоров между Берлином и Москвой в этой новой, более сложной обстановке. Начальство в Берлине без особого понимания отнеслось к его усилиям. 20 марта Вайцзеккер по поручению Риббентропа передал Шуленбургу по телеграфу указание[418] в дальнейшем избегать обсуждений с представителями Советского правительства любых вопросов, касающихся оккупированной Чехословакии. Поэтому поводу, говорилось в телеграмме, послам Англии и Франции в Берлине уже «заявлено, что мы не можем принять протесты». Правительство рейха больше не интересовали дипломатические соглашения. Тем неотложнее представлялась германской дипломатии в России ее задача.