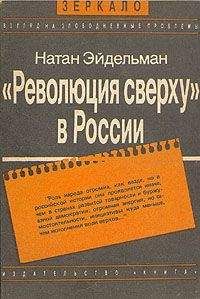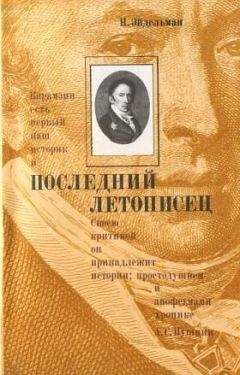Натан Эйдельман - Большой Жанно. Повесть об Иване Пущине
Как быть! Грустно переживать друзей[2] — ведь Иван Дмитриевич Якушкин и эти сибирские дороги — вот сюжет почище любого моего! Сначала отца вашего везут в цепях за тридевять земель; потом жене не разрешают последовать за мужем; и как забыть ваше, Е. И., первое появление в Сибири, в 1853-м.
Сколько толкуют теперь об 11-ти декабристках (кажется, уж и такое слово завелось), о женах, поехавших за своими — и там в Сибири жили хорошо, достойно. Все так, это было необыкновенно, но необыкновенность, так сказать, нормальная, скажу по секрету — естественная. Но вот едет к отцу сын, которого отец не видел даже новорожденным. Сыну 27 лет — и как все будет? И как все было!
Ей-ей просто хоть рекомендуй властям, чтобы для общего блага впервые соединяли отца с сыном, когда молодому стукнет 27, а старшему 60…
Я не верю, что отношения ваши без той нечеловеческой разлуки сложились бы лучше: ведь лучше нельзя… Впрочем, во Вселенной, вероятно, все расчислено и определено наперед куда больше, чем полагаем, а Якушкиным всегда и везде было бы хорошо друг с другом — и после разлуки, и без нее, и до нее, и черт знает где еще.
Однако вернемся к 1849 году.
Тогда, в Иркутске, повидал многих — и Волконских, и Трубецких, — Катерину Ивановну в последний раз, как и многих других; Панову только год жизни оставался. Но не знали ведь, что больше не встретимся, не унывали. Да что говорить об унынии: возможно, не было более радостных и свободных встреч в России 1849 года, чем наши.
Вот и подумал я, веселясь в Иркутске, — а надо бы навестить Горбачевского. Меня отговаривали — ведь разрешения переезжать Байкал не имею, и как бы на ретивого исправника не налететь, а он задвинет с поселения обратно в каторгу, как Лунина. Но с другой стороны, Евгений, — как же тезку не навестить?
Ведь Иван Иванович Горбачевский как прибыл с нами в 1830-м в Петровский завод, так девять лет спустя там на поселении и остался; а еще через семнадцать лет на свободу вышел, и все равно в Петровском же остался, и теперь уж 28-й год засел — на днях весьма характерное послание мне прислал — вот оно:
«Нечаянно и неожиданно я получил от тебя письмо с деньгами, драгоценный мой Иван Иванович!
И не знаю, как выразить тебе мою благодарность, не помню, когда я читал твои письма, тем более меня радует получение твоего письма, что в моей настоящей жизни письмо — редкость, почти происшествие. Никогда, никто мне не сказал, где ты живешь, что делаешь, даже жив ли ты, но странное дело, иногда я получаю письма и записки от Поджио, от Бечаснова, и они, по обыкновению говоря, что им «нет времени», ни слова никогда не говорили о тебе. Так не удивляйся, что в первый раз в жизни слышу слово «Бронницы», — и почему не Москва, не Петербург и прочее, но какие-то Бронницы, все это для меня и ново и странно.
Я тебе лучше скажу, я слышал, только не от своих, что ты женат, — на ком, когда это с тобой случилось, где и как, ничего мне об этом не писали… И что за Бронницы, что за Марьино, как ты туда попал и зачем? Ты спрашиваешь, что я делаю.
Живу по-прежнему в Заводе, где ждут тебя по твоему слову на будущий год, — увидишь все настроения те же, люди те же, которых ты знал, лампада горит по-прежнему. Твердо скажу, что намерен делать с собою: ничего и оставаться навсегда в Заводе — вот ответ. Волконский, Трубецкой обещали писать — не пишут, видно, русский климат действует на память. Никогда никого не забуду, — и кто мне говорит о старом и бывалом, кто говорит о моих старых знакомых сотоварищах, тот решительно для моей душевной жизни делает добро».
Вот какое письмо.
Мое обещание «явиться на будущий год», то есть в 1859-м, — это намек на ту историю 1849 года, которую я вам начал, да никак не докончу. Итак, тем летом решился я; сказано — сделано: добыл кое-какие, сомнительные, по правде говоря, бумаги, — и в путь. Третий раз в жизни Байкал переехал (первый — по льду на каторгу, второй — на поселение по воде): на этот раз дней пять тащили на бечеве; а затем — вперед! — от станции к станции — и ведь я ссыльный, еду к ссыльному, край давно знакомый, каторжный — а не могу пригасить радостного чувства свободы. Много ли надо? В стране, где столь многого нельзя, выходит, больше способов почувствовать себя свободным: стоит лишь какое-нибудь из этих нельзя обойти, откинуть! А там, где почти все можно, свободно, — там почувствовать себя на воле не так-то просто. Ну да ладно…
Помню, как еду по бурятской степи — и небо темно-голубое, от которого в сероватой моей Западной Сибири отвык: еду и читаю, когда шепотом, а когда и во всю глотку незабвенного нашего Сашу Одоевского —
Куда несетесь, вы, крылатые станицы?
В страну ль, где на горах шумит лавровый лес,
Где реют радостно могучие орлицы
И тонут в синеве пылающих небес?
А неслись мои лошадки не хуже той крылатой станицы: господи, как неслись! Меня, в ту пору еще бравого и жилистого, ямщики связывали ремнями, чтобы не растрясся совсем. Впрочем, еще дважды в жизни так скакал: в первый раз — из Пскова в Михайловское в январе 25-го к Пушкину, в другой раз — на каторгу! Я сказал, правда, нашему фельдъегерю, что в каторжную работу, кажется, незачем так торопиться, но он по своим расчетам бил ямщиков и доказывал свое усердие к службе… А через четверть века, в 1849-м, я снова, по своей охоте, скачу вдоль Селенги через горы, по степям — где прошла моя молодость, целых 10 лет, да каких! Скачу, будто мне 26 лет, будто из отпуска тороплюсь и сейчас за сопкой откроется Псков, а там мелькнет Остров — да с парой бутылок клико в Михайловское!
Как видите, все три моих быстрейших гоньбы — обязательно или к ссыльным друзьям, или в собственную каторгу. Но вот эпилог: теперь, в 1858-м, еду в Москву, в Питер совсем свободным, но перемещаюсь медленно, осторожно и никак не умею войти в роль, не могу понять своей сегодняшней свободы: стар!
Вдовы Клико в 849-м я в Иркутске не нашел, но все же бутылки кое-какие вывез, а с ними и одолел 800 верст — очень помню, как, подъезжая к Петровскому заводу туманной ночью, увидел лампаду в часовне нашей незабвенной Александры Григорьевны. И на что уж не любитель всяких обрядов — а тут помолился на ее могиле и за полночь ввалился к Горбачевскому. Иван Иванович мой при виде неожиданного гостя так уж возликовал, что даже застыдился своей неимоверной радости — испугался, что я, не дай бог, подумаю, будто ему тут, в Петровском, невесело и что сейчас нытье пойдет…
Плохо помню, о чем говорили — да о чем же не говорили. И как простились, не очень уже разумею, — а твердо знаю теперь, что простились навсегда. Хорошо бы сдержать данное тогда слово, вернуться через десять лет и помчаться за 7000 верст — но как бы по дороге не проиграть пари моему немецкому доктору…
Так вот и выходит, дорогой Евгений, что тогда были самые поэтические недели моей жизни: из ссылки в ссылку! А Егор Антонович[3] еще полагал, что я шучу, когда писал ему: «Вы не так свободны, как я свободен в своей тюрьме».
Все, все на свете, Евгений, станет известным; вы и подобные вам соберете много рассказов о нас, о нашем деле, о старых временах. Сейчас, говорят, историки пошли такие основательные, что один вычитал у Гёте: «Ах, как я люблю мою Христину!» — и тут же последовал ученый комментарий: «Гёте ошибается, он в это время любил не Христину, а Гертруду».
Так вот, мой друг, все про нас узнают, — но меньше всего о таких озарениях, какое случилось со мною летом 1849-го, на 24-м году тюрьмы (и еще семь лет впереди!). Такие всполохи, конечно, не есть предмет для историка, — а ведь у каждого бывают; и в них-то, думаю, самая суть той поэзии, за которую всегда стоял и стою. Александр Сергеевич, помню, прожужжал всем нашим, будто его Пущин — прямой поэт; я же, не сочинивший и одного стиха, конечно, смеялся до упаду, но Пушкин, наверное, лучше всех понимал, что не рифмой крестят поэтов. Ладно, оставим эту статью, а то я — воистину, великий человек на малые дела — и скоро еще и не туда залечу — буду совсем как покойный Александр Нарышкин. Вы его не могли знать, а я сподобился: редкостный болван, истративший все умственные силы на решение хитрой задачки, которую у нас в Лицее именовали «теоремой Дельвига»: «Как при учености не сделаться дураком?» Так вот Нарышкин сделался: образован, воспитан, остроумен даже — а дурак, да еще какой! Всегда счастливый, веселенький, удачливый — только в ночь на 12 марта 1801 года маленько побили его, потискали — но через час опять милость нового царя, и наш Нарышкин, вспорхнув, побежал, теперь уж до самой смерти. Занесло его на Венский конгресс — и умилился тем, что все такие милые, веселые, славные, как он; и подбежал князинька прямо к Талейрану, вчерашнему врагу, сегодняшнему союзнику:
— Mon oncle (Талейран приходился Нарышкину седьмой водой на киселе через какую-то немецкую графиню) — так вот: «Дядюшка! скажите, чего, собственно, Наполеон искал в России?..» Талейран, хладнокровно продолжая играть в карты, отвечал: «Страсть к путешествиям, мой друг, страсть к путешествиям». (Manie de voyage.)