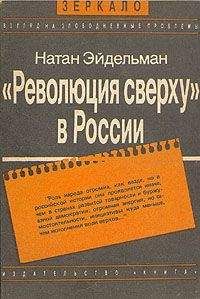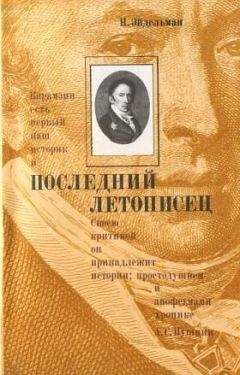Натан Эйдельман - Большой Жанно. Повесть об Иване Пущине
Ей-богу, так и не нашел бы князь мою коллекцию, если б я не осмелился сострить в записке к Петру Андреевичу, что, дескать, я понимаю — есть такая должность „министр без портфеля"; тут уж, верно, был перерыт весь министерский дом, и портфель вернулся к своему законному владельцу.
О стихах и бумагах тайного общества, что были спрятаны, здесь распространяться не буду: все и так к вам отправятся, — а вот эту чистую почти тетрадку я в спальне положил, чтобы на сон и утром глянуть на первый лист — на лицейские чернила, «на далеких, на родных…».
И теперь вот вижу: судьба!
Судьба мне ехать, и, думаю, ехать в последний раз.
Судьба писать мне в эту тетрадку все, что соберу в поездке. Вы слишком много сделали мне добра, чтобы я успел с вами «рассчитаться», но попробовать, попробовать-то надо!
Самыми замечательными рукописями, сохранившимися в пущинском портфеле, были некоторые лицейские стихотворения Пушкина, а также конституция Никиты Михайловича Муравьева с отзывами на полях Рылеева и других членов Северного общества. По поводу же похвалы в мой адрес считаю нужным вот что заметить: Иван Иванович был очень щепетилен. Я доставлял ему книги, снимал дагерротипы, делал литографии с него и других декабристов, кроме того, наскоро записал или скопировал кое-какие их рассказы и рукописи: вот и все мои подвиги! А он постоянно вычислял, сколько мне должен, и пытался уплатить, а я брал плату только «натурой» — то есть новыми рассказами о Пушкине, о 14декабря, о Сибири, — и он, притворно вздыхая, соглашался. Е. Я.
К тому же есть занятные, очень занятные загадки, о которых только теперь и можно потолковать, а вот времени-то, оказывается, нет. Скажу по секрету, Евгений Иванович, после немца взгрустнул я все же. До сей поры жил по английской поговорке: «знаю, что должен умереть, — но не верю». А теперь впервые, пожалуй, поверил, даже слезинку сквозь очки пролил. Вспомнилось вдруг, как умирал много лет назад чудесный мальчишечка, трехлетний сын Петра Андреевича Вяземского. Я подошел к его кроватке и спрашиваю: «Каков ты, Николенька?» А он мне в ответ: «Час от часу хуже, дядя Жанно, бог знает, чем это все кончится». Вот теперь только я с ним, бедным, сравнялся.
Ну да ладно —
С богом, в дальнюю дорогу…
Конечно, еще и увидимся. Бог даст, в Москве — и сядем в креслах друг против друга — и мильон вопросов, мильон ответов… Но надо, ох как надо наготове быть.
К счастью, хоть записки о Пушкине успел вам сдать. Но в голове уже немало к ним прибавлений, да и о другом тоже не грех записать.
Впрочем, снова и снова повторяю, что буду наблюдать за собою как за частицей, хотя ничего и не значащей, но входящей в состав некоего целого, которое не должно быть забыто. В общем, как говорил (и говорит) к месту и не к месту мой Иван Малиновский, — «Ты не знаешь внутренних происшествий!» Посему буду болтать что взбредет об этих самых происшествиях, да вряд ли уж успею перебелить, причесать свои черновые. Это уж ваша забота, друг мой. Читайте, если сможете разобрать мою руку.
Кстати, вспомнил, как примерно на 20-м году сибирского жития нам вдруг велели писать разборчивее и лучшими чернилами: в противном случае наши письма не будут доставлены. Вот до чего разленились мои письмочеи, и ведь сколько лет вскрывали конверты — а все не научились разбирать!
Вследствие такого гонения хотел я было впредь писать на бумаге меж двух линеек печатными буквами, как бывало в детстве составлял дедушке-адмиралу поздравительные письма. Хотел, да не стал: ребячество «мне не к лицу и не по летам…».
И еще avis au lecteur:[1]
знакомясь с моею исповедью, держите, пожалуйста, перед глазами следующие, вряд ли известные вам строчки из письма самого знаменитого моего лицейского соседа:
«Писать свои Memoires заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать — можно; быть искренним — невозможность физическая. Перо иногда остановится, как с разбега перед пропастью — на том, что посторонний прочел бы равнодушно. Презирать… суд людей не трудно; презирать суд собственный невозможно».
Вот вам, дорогой друг, и приличный эпиграф к описанию моих похождений.
А далее уж — прочтите как сумеете. Браните за пустоту в голове, но не обижайте только сердца. Отыщите обязательно в сих каракулях только то чувство, которое и без выражения существует. Тут ведь…
Здесь Иван Иванович вырвал один или два листа, где (судя по сохранившемуся клочку одного из них) записывал разные разности, проверяя, как видно, свою слабеющую память. Наталья Дмитриевна поведала мне, что во время болезни ее муж все время записывал знакомые стихи, а потом рвал листочки на части — но тут, видно, не заметил, что расправляется и с отрывком, для меня предназначенным. Е. Я.
Сентября 17-го. Москва
Еще неведомо, кто в России длиннее ездит: свободный или ссыльнокаторжный? (Кстати, все не привыкну, что теперь я называюсь просто «дворянин Пущин» без прежнего громкого ж длинного титула — «государственный преступник, находящийся на поселении»!)
Так вот Пушкин, по вычислениям биографов, смог 34 тысячи верст наездить за 37 лет, а я, пожалуй, не меньше — хотя и за больший срок.
Дорога — великое дело. Вот собрался недалеко — по сибирской дистанции от Бронниц до Москвы, 60 верст, — это даже не путь, а ближняя прогулка. И все жe сердце забилось, и хворость вроде бы отступила — так весело выехали мы в коляске, а я снял шляпу да поздоровался с могилой своей: точно знаю, что лягу скоро рядом с Михайлой Александровичем.
М. А. Фонвизин — друг Пущина, декабрист, до ареста генерал-майор. Иван Иванович женился незадолго до смерти, 59-летним, на 52-летней вдове Фонвизина, Наталье Дмитриевне. М. А. был похоронен, так же как и брат его Иван Александрович, в ограде Бронницкого собора. Рядом теперь и могила Пущина. Е. Я.
А вот Наташа твердо знает, что не будет здесь покоиться: так ее разозлила родственница, постоянно твердившая: «И тебе, Натальюшка, здесь местечко, и ты уляжешься тут». Я же как-то разучился из-за подобных материй волноваться — и повторяю сегодня вслед за господином Карамзиным: «Ясно утро — ясна душа моя». То есть душе моей ясно, что тело едет в Москву. А зачем едет? Разумеется, чтобы устроить некоторую дебошу. Ну и, конечно, маленько помаремьянствовать.
Одно из любимых пущинских словечек, происходившее от «Маремьяны-старицы, что за всех печалится». Пущина за его постоянные хлопоты так прозвали еще в Сибири. Десятки, а то и сотни людей, иногда совсем не близких Ивану Ивановичу, пользовались его худым кошельком и столь же часто редкостным умом и сердцем. Постоянно — кому-то денег, у той сына устроить, за третьего писать в Петербург, четвертого укрыть, пятого просто ободрить. Ни один декабрист не вел и десятой части той огромной переписки, которою был обременен Пущин. Эта деятельность его еще по-настоящему не оценена. Е. Я.
Конечно, можно бы и не маленько, а изрядно почтить старицу, но вот ведь глупая вещь деньги! Особенно, когда хочется ими поделиться с другими, тогда еще больше чувствуешь неудобство от недостатка в этой глупой вещи. Бодливой корове бог не дал рог.
Итак, разместился я в тряской своей колеснице. Наташа так уж меня закутала и обложила, что дорога — как будто по сибирскому снегу.
Эх, Евгений, болтовня старика одолевает. Хочется вспомянуть и помянуть свои дороги, хотя Вы уж, без сомнения, наездили больше, чем я и Пушкин вместе. И все-таки скажу, что взбрело на ум, пока от Бронниц отчаливал.
А взбрело вот что: как ехал я к Горбачевскому. Дело было в ссылке, когда конца ей не было видно. Сейчас-то я знаю, что оставалось семь лет, но тогда, в 1849-м, казалось, что, если уж так долго сидим, значит — никогда не выйдем, ибо все сроки миновали, и, стало быть, никаких сроков нет.
Так вот из нашего Ялуторовска, где мы с вашим отцом и другими известными злодеями давно проживали, выхлопотал я разрешение подлечиться. Лечение, конечно, повод, пустяк, хотя нога моя и в самом деле требовала починки. Дозволили же мне ехать прежде всего оттого, что просился не на запад, ближе к столицам, — но на восток.
Ну и поехал. Неделя, другая — по Сибири. Хоть и «государственный преступник, находящийся на поселении», но права-то какие: на тысячи верст! Если бы я на столько же переместился к западу, сколько отъехал на восток — непременно оказался бы на Висле, или Дунае, или даже у Рейна, у Сены. Однако на этот раз моею Москвой стал Томск, моим Карлсбадом — Иркутск, а уж Берлин, Париж где-то за Байкалом.
Вот пишу эти строки, а нейдет с ума отец ваш: ведь с ним тогда прощался, чтобы встретиться, — и хорошо было.