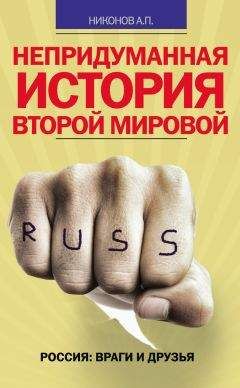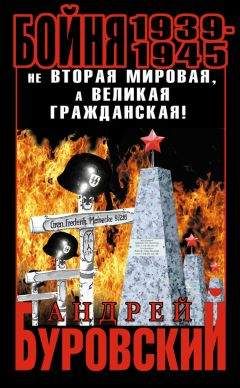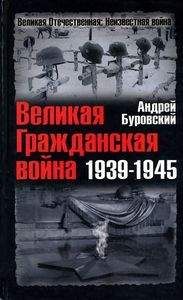От Второй мировой к холодной войне. Немыслимое - Никонов Вячеслав
20 августа
В Японии в ожидании высадки на ее островах союзных, прежде всего, американских войск, царила настоящая паника. Слухи прокатывались по стране, как цунами. Говорили о начавшейся высадке китайских войск в Осаке, о десантировании в Иокогаме более 50 тысяч американских солдат, которые якобы продвигались вглубь страны, грабя и насилуя всех подряд.
Местные власти настоятельно советовали женщинам и детям переехать из больших городов в сельскую местность. Многие восприняли это как официальную директиву по эвакуации, и вскоре все дороги были забиты толпами беженцев. Все женщины в детородном возрасте, способные передвигаться, бежали в горы.
В армии и на флоте сохранялись силы, отказывавшиеся капитулировать и призывавшие возобновить военные действия. Как, например, 302-я авиагруппа, дислоцированная на секретном аэродроме в Ацуги, предназначенном для обороны воздушного пространства Токио и тренировок пилотов-камикадзе военно-морского флота. Команда из двух тысяч человек завершала там подготовку, и вся она была готова нанести сокрушительный удар по врагу. Ведомые генералом Кодзоно, они заявляли о намерении атаковать флот союзников, как только он приблизится к Токийскому заливу.
С самолетов разбрасывали листовки с призывами сопротивляться оккупантам. В Токио начались разговоры о создании «правительства сопротивления».
Советские войска уже занимали территорию, которая превосходила освобожденные ими регионы Европы, и продолжали идти вперед.
Штеменко писал: «Как только японские войска в Маньчжурии стали складывать оружие, Ставка приняла решение: на тех участках фронта, где враг капитулировал, боевые действия прекратить. Однако советские армии и дивизии продолжали продвижение в намеченные районы. Впереди действовали сильные передовые отряды. За ними следовали главные силы, которые и принимали капитуляцию противника.
Наши войска вступили на территорию Кореи. Морские десанты захватили важнейшие ее порты. Советский солдат пришел на священную для него землю Порт-Артура.
Разгром Квантунской армии стал фактом. Только на Сахалине сопротивление длилось местами до 25–26 августа, а на Курильских островах морские десанты закончили прием сдавшихся в плен японцев лишь в последний день августа».
Адмирал Кузнецов перед возвращением в Москву решил посетить Амурскую флотилию. «Ее 4 бригады речных кораблей и 2 бригады бронекатеров – более чем 200 вымпелов – активно участвовали в разгроме милитаристской Японии, – писал главком ВМФ. – Мне особенно понравились мониторы флотилии. Эти небольшие, но исключительно хорошо сконструированные корабли оказались самыми удачными для тесного взаимодействия с сухопутными войсками. Они заходили далеко в тыл врага, обеспечивали переправы, высаживали десанты, оказывали им огневую поддержку… Ко времени боевых действий против Квантунской армии флотилия пополнилась новыми бронекатерами, а их экипажи и командиры уже накопили достаточный боевой опыт в сражениях на Днепре, Дунае, Волге…
Основные силы флотилии, доложил мне Н. В. Антонов, начали боевые действия на реке Сунгари. Оказав войскам помощь в занятии городов Цзямусы, Саньсин, флотилия двинулась на Харбин, который был взят 20 августа. А перед этим наступлением флотилия почти целую неделю обеспечивала форсирование Амура войсками 15-й и 2-й армий. Она высаживала десанты при захвате города Сахаляна, переправляла войска из Благовещенска в Сахалян… В результате от противника было очищено все правое побережье верхнего и среднего Амура, что обеспечило свободное плавание наших кораблей».
Трумэн продолжал жаловаться на Советский Союз: «20 августа японцы сообщили о трудностях в Китае, где различные полевые командиры решали осуществлять капитуляцию каждый по-своему. Макартуру было предложено направить официальных представителей в Китай для расследования и консультирования по „фактической ситуации“».
Сталин 20 августа нашел время, чтобы ответить британскому премьеру Эттли: «Благодарю Вас за ваше дружеское приветствие и поздравление по случаю победы над Японией и в свою очередь поздравляю Вас с этой победой. Война против Германии и Японии и наши общие цели в борьбе с агрессорами сблизили Советский Союз и Соединенное Королевство и укрепили наше сотрудничество, основой которого на долгие годы является наш союзный договор.
Я выражаю уверенность, что это сотрудничество, испытанное в войне и военных опасностях, будет развиваться и крепнуть и в послевоенное время на благо наших народов».
Надежды окажутся напрасными, отношения с Великобританией будут только ухудшаться, как и со всем Западом.
И именно в тот день – 20 августа – были приняты исторические решения, предопределившие будущий успех советской ядерной программы. Но об этом отдельно в следующей главе.
21 августа
Конно-механизированная группы Плиева с утра продолжила движение в сторону Пекина, вызывая все большую нервозность у Чан Кайши и американцев. «На рассвете 21 августа наш передовой командный пункт прибыл и развернулся в Аньцзятуне, – рассказывал наш генерал. – Здесь ко мне явился представитель гоминдановского генерала Шуа Юаси и вручил записку…
Действия Чан Кайши по мере нашего приближения к Пекину становились все более враждебными и коварными. Он подсылал к нам своих представителей, которые в ультимативной форме требовали остановить дивизии и вернуть их за Великую Китайскую стену, грозили, что продолжение наступления на Пекин вызовет осложнения в советско-китайских отношениях… В наших руках оказался офицер, только что прибывший из Пекина. На допросе он утверждал, что японские части, расположенные южнее Великой Китайской стены, получили приказ вести упорную оборону против наступающих на Пекин советско-монгольских войск и что японское командование будет нести ответственность перед правительством Чан Кайши за оставление занимаемых рубежей и населенных пунктов.
Эти предательские шаги гоминдановцев мало меня беспокоили. Они лишь подсказали решение сосредоточить силы конно-механизированной группы для последнего броска на Пекин».
Но в этот момент Сталин принял решение остановить продвижение войск в континентальном Китае. Плиеву «была вручена краткая и лаконичная телеграмма, предписывающая остановить войска и закрепиться на достигнутых рубежах. Затем поступил приказ командующего войсками Забайкальского фронта, запрещающий дальнейшее наступление на Пекин. Мы должны были отвести наши соединения к северу, к Великой Китайской стене. Приказ был выполнен».
Однако остановка наступления вовсе не означала, что Москва отказалась от далеко идущих планов в отношении Китая. Вечером того же дня к Плиеву прибыл посланник от командующего Шаньси-Чахар-Хэбэйским военным округом 18-й армейской группы 8-й армии КПК генерал-полковника Не Чуньчженя и вручил письмо. Там содержалась далеко не скромная просьба: «В разгроме Японии и в деле освобождения китайского народа Вы уже оказывали нам большую помощь, в этом мы всегда признательны Вам. Но предстоит тяжелая борьба. Реакционная группировка Гоминьдана, под непосредственным руководством американских империалистов, наступает на нас. Гражданская война в Китае неизбежна. Поэтому мы надеемся на Вас и просим Вашу дальнейшую помощь. В ближайшее время просим Вас передать нам все трофеи, захваченные Вашими войсками у японцев, – винтовки, пулеметы, минометы, артиллерию, боеприпасы, машины, рации и прочее военное имущество». Плиев не спешил с ответом, и посланник прямо заявил:
– Вы – Красная армия, и мы – Красная армия. У нас один враг. Дайте нам оружие и боеприпасы.
– Мы не можем выдать оружие, – наконец ответил Плиев, сделав акцент на слове «выдать». – Но вы не хуже нас знаете, где находятся склады с вооружением и боеприпасами.
– Там стоит ваша охрана.
– Вы хотите, чтобы она помогла вам грузить?
– Мне все понятно. Благодарю вас.
Продвигались в тот день вперед советские войска в Корее. «21 августа, с захватом нами Гензана и высадкой парашютистов в Канко (Хамхын – В.Н.), Квантунская армия оказалась отрезанной от метрополии, так как через три дня подвижные части 1-го Дальневосточного фронта ворвались в Хейдзио (Пхеньян). Тем самым обе железные дороги, ведшие в Центральную Корею, были перерезаны. Комбинированные действия сухопутных частей и флота увенчались полным успехом», – поведает Мерецков.