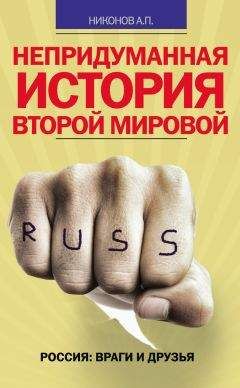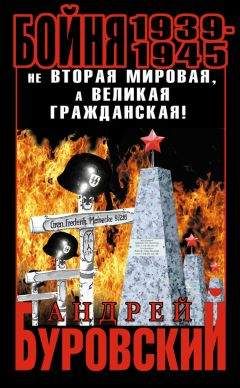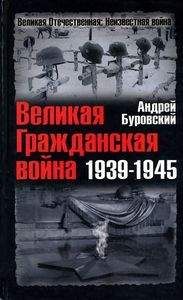От Второй мировой к холодной войне. Немыслимое - Никонов Вячеслав
Соглашение о порте Дальнем объявляло его «свободным портом, открытым для торговли и судоходства всех стран». Китайское правительство соглашалось «в указанном свободном порту выделить для передачи СССР в аренду пристани и складские помещения на основе отдельного соглашения… Администрация в Дальнем будет принадлежать Китаю».
Соглашение об отношениях между советским военным командованием и китайской администрацией после вступления наших войск на территорию Трех восточных провинций, то есть Маньчжурии, устанавливало, что «верховная власть и ответственность в зоне военных действий во всех вопросах, касающихся ведения войны… будет возложена на Главнокомандующего советских вооруженных сил». При нем «будет назначена китайская военная миссия». «Как только любая часть возвращенной территории перестанет быть зоной непосредственных военных действий, Национальное правительство Китайской Республики будет принимать на себя всю власть по линии гражданских дел». Была и протокольная запись: «Генералиссимус Сталин не пожелал включить пункт об эвакуации советских войск в течение трех месяцев после поражения Японии… Однако Генералиссимус Сталин заявил, что в течение трех недель после капитуляции Японии советские войска начнут эвакуацию».
Таким образом, Советскому Союзу возвращались многие права и привилегии, которыми пользовалась ранее Россия в Маньчжурии по Союзному договору 1896 года и по другим соглашениям с Китаем, утраченные в результате поражения в русско-японской войне 1904–1905 годов и последующих военных акций Японии. Москве возвращалось право на использование военно-морской базы Порт-Артур и порт Дальний. Вместе с железными дорогами в совместную с Китаем собственность переходили десятки крупных промышленных предприятий и многие другие объекты, также построенные Россией, и обслуживающие дороги. Кроме того, китайское правительство выражало согласие на использование на паритетных началах всего мощного военно-промышленного и другого хозяйственного комплекса в Маньчжурии, который обслуживал до недавнего времени японскую Квантунскую армию.
Договор гарантировал возвращение Маньчжурии под суверенитет Китая после его освобождения от японских оккупантов. СССР взял на себя обязательство не вмешиваться во внутренние дела Китая в части, касающейся провинции Синьцзян. Заметим, что справиться с этой проблемой китайское правительство было бы не в состоянии в случае малейшего желания СССР повлиять на события в Синьцзяне.
Советская нота в связи с подписанием Договора содержала обязательство «оказывать Китаю моральную поддержку и помощь военным снаряжением и другими материальными ресурсами, причем эта поддержка и помощь будут полностью идти Национальному правительству, как Центральному правительству Китая».
В Токио уже после полуночи генерал Анами отправился спать. А «молодым тиграм» было не до сна. Обсудив новость, сообщенную им полковником Арао и вдохновленные участием в реализации их замыслов военного министра, они приступили к лихорадочным действиям.
Командующих Императорской гвардией генерала Мори и Армией Восточного округа генерала Танаку, от которых зависело многое в успехе заговора, они пригласили якобы от имени Анами в военное министерство на 7.15 утра. И занялись подготовкой приказов и инструкций по диспозиции войск и изоляции капитулянтов. Готовый к подписанию приказ о введении военного положения ждал только санкции Анами.
Анами начал день рано завтраком с маршалом Хатой, командующим Армией Западного округа. Ее штаб находился в Хиросиме. Анами пригласил его в Токио, чтобы услышать о последствиях атомных бомбардировок и чтобы Хата помог ему уговорить Хирохито отказаться от капитуляции. Маршал был настроен на удивление оптимистично. Он рассказал, что бомба даже не повредила корни батата на глубине пяти сантиметров и что белые одежды отражали свет ядерной вспышки. Таким образом, доказывал Хата, от ядерного взрыва можно защититься. Удивленный этой информацией, Анами попросил Хату обязательно доложить об этом императору, чтобы побудить его пресечь разговоры о сдаче.
Уже в семь утра военный министр и полковник Арао встретились в штабе армии с его начальником генералом Умэдзу. За чашками с зеленым чаем Арао изложил план введения военного положения, смены правительства и «нейтрализации» пацифистов. Встреча оказалась краткой. Умэдзу, человек весьма осторожный, просто и категорично отказался участвовать в заговоре. С тем и уехали.
«Молодым тиграм», которые столпились по возращении Анами в его кабинете, военный министр сказал:
– О перевороте нужно забыть. Начальник штаба не одобряет его.
В девять утра, чувствуя кипящее настроение в министерстве, Анами собрал руководящий состав и заявил:
– Армия должна действовать в унисон со всеми государственными структурами, потому что Япония находится в критическом положении. Крепите ваше единство. Избегайте всякого нарушения воинской дисциплины. Всякий, кто решится на самовольные действия, сможет реализовать их только через мой труп.
На рассвете 14 августа семь американских бомбардировщиков В-29 с грузом 5 миллионов листовок взлетели с тихоокеанского острова Сайпан с заданием разбросать эти листовки над Токио, Осакой, Нагоей, Кобе и Киото. В листовках было «Обращение к народу Японии», где говорилось: «Американские самолеты не сбрасывают сегодня на вас бомбы. Вместо них американские самолеты сбрасывают эти листовки, потому что японское правительство выдвинуло предложение о капитуляции, и каждый японец имеет право знать условия этого предложения и ответ на него со стороны правительств Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Китая и России. У вашего правительства имеется теперь уникальная возможность закончить войну немедленно». И далее следовал текст послания японского правительства союзникам от 8 августа и текст ноты госсекретаря Бирнса от 11 августа. Оба эти документа были в Японии строго засекреченными, и столь широкое их обнародование было справедливо расценено в Токио как мощнейший пропагандистский удар.
Хранитель печати Кидо был в шоке. Если листовки попадут в руки военных, это приведет их в ярость, и военный переворот может стать неизбежным. Кидо сразу же позвонил во дворец с просьбой об аудиенции у императора, и она была назначена на 8.30. Встретившись с Хирохито, Кидо обрисовал ему ситуацию и предложил как можно скорее созвать «большую шестерку» и кабинет, чтобы потребовать от них, как император сделал уже 10 августа, немедленного прекращения боевых действий. Его Величество, напишет Кидо, «в полной мере оценил обстановку и повелел мне подготовить соответствующие распоряжения вместе с премьер-министром».
Вскоре Кидо и Судзуки получили у Хирохито совместную аудиенцию. Это был первый случай в истории Японии, когда император принимал одновременно премьера и хранителя печати. Судзуки рассказал о расколе в «шестерке» и обратился в кабинете с официальной просьбой о созыве Императорской конференции. Хирохито немедленно назначил ее открытие на 10.00 утра.
Когда через левую дверь вошел император в военной форме в сопровождении генерала Хасунумы, 24 человека в зале встали и низко поклонились. Хирохито сел, за ним сели и участники конференции. Судзуки вновь поднялся и заговорил. Об отсутствии согласия в обсуждениях на протяжении прошедших четырех дней, о расколе внутри правительства, хотя 75 % членов кабинета министров поддержали принятие условий союзников.
– Так как поддержка не была единодушной, то я приношу свои искренние извинения за то, что я осмеливаюсь беспокоить Ваше Величество по этому делу. Теперь я прошу вас выслушать противников принятия поставленных нам условий, а затем объявить о вашем императорском решении.
Премьер предоставил слово Умэдзу. Генерал, с бесстрастным выражением лица, заговорил:
– Я приношу извинения Вашему Величеству за неблагоприятное развитие событий, которые могли вызвать ваше неудовольствие. Но если Япония примет условия Потсдамской декларации, сохранение нашей традиционной системы управления окажется под очень серьезным вопросом. При существующих обстоятельствах национальное государство будет разрушено. Поэтому мы должны еще раз попытаться понять истинные намерения Соединенных Штатов. Пусть мы проиграли войну, но мы можем смириться с поражением только если будем уверены в дальнейшем существовании нашего национального государства. Но если оно не может быть сохранено, мы должны быть готовы пожертвовать всей нацией в последней битве даже ценой сотни миллионов жизней (смерть в сражении ста миллионов – «итиоку гёсукаи»).