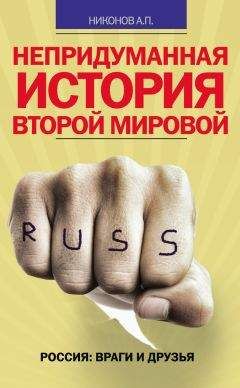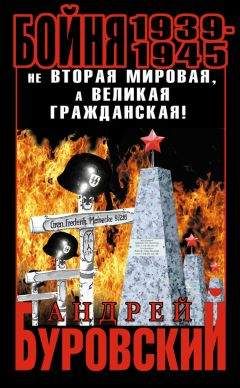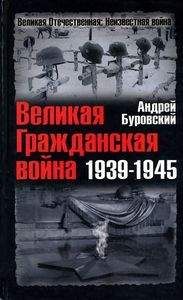От Второй мировой к холодной войне. Немыслимое - Никонов Вячеслав
По прибытии в Москву, повествовал Эйзенхауэр, «нас разместили в американском посольстве у моего доброго друга Аверелла Гарримана, бывшего в то время американским послом. Нашей хозяйкой была его очаровательная дочь Кэтлин».
Жуков писал, что «Сталин приказал начальнику Генерального штаба Антонову познакомить его со всеми планами действий наших войск на Дальнем Востоке». Эйзенхауэр подтвердит: «Мой визит в Москву начался со встречи с генералом Антоновым, начальником Генерального штаба Красной армии. Он провел меня на свой командный пункт, рассказал о положении войск на Дальнем Востоке и показал детальный план кампании, которая была начата всего несколько дней назад».
Антонову было чем похвалиться.
Получив текст согласованного послания четырех держав Японии, Вашингтон начал действовать.
«Завершенное послание, датированное 11 августа, было передано герру Максу Грассли, поверенному в делах Швейцарии, госсекретарем Бирнсом для передачи в Токио через Берн», – писал Трумэн. Леги добавлял, что ответ «также был передан американской прессе и радиовещанию, чтобы сделать его известным Японии за несколько часов до того, как он поступит по официальным каналам». Пока ожидалось решение японского правительства, военные действия против Японии велись со всей возможной энергией.
Адмирал Нимиц издал приказ по Тихоокеанскому флоту: «Нельзя допустить, чтобы публичное объявление японцами встречных предложений о прекращении войны повлияло на бдительность в отношении японских атак. Ни японцы, ни союзные войска не прекратили боевых действий. Наступательные действия должны продолжаться, если иное не предписано специально».
По указанию Трумэна было подготовлено «сообщение для информирования наших союзников о выборе генерала Дугласа Макартура на пост главнокомандующего оккупационными войсками союзников в Японии. В том же послании я предложил новому главнокомандующему дать указание японцам провести капитуляцию своих сил в Юго-Восточной Азии адмиралу лорду Луису Маунтбеттену, главнокомандующему в этом районе; тех сил, которые противостоят русским, – советскому главнокомандующему на Дальнем Востоке; а всем остальным силам в Китае – генералиссимусу Чан Кайши».
12 августа
Наступление советских войск развивалось успешно. На четвертый день Маньчжурской стратегической наступательной операции соединения 6-й гвардейской танковой армии генерал-полковника Кравченко уже преодолели считавшийся неприступным Большой Хинган и вырвались на Маньчжурскую равнину, глубоко вклиниваясь в тыл Квантунской группировки войск и упредив выход ее основных сил к этому горному хребту. К вечеру 12 августа танкисты Кравченко устремились к ключевым центрам Маньчжурии – Чанчуню и Мукдену (Шэньяну).
Штеменко имел все основания констатировать: «Уже 12 августа главные силы механизированных корпусов 6-й гвардейской танковой армии перевалили через Большой Хинган и вырвались на Маньчжурскую равнину. Важнейший естественный рубеж, где японцы могли оказать упорное сопротивление, остался позади. Предстояло продолжать движение на тех же скоростях к центру Маньчжурии, к „объекту № 1“, как тогда называли Мукден». За танкистами последовали и другие части.
Советские войска продолжали демонстрировать образцы мужества и стойкости, о чем свидетельствовали боевые донесения. «Если бы раньше мне сказал кто-либо, – сообщал командир 1136-го стрелкового полка 338-й стрелковой дивизии 39-й армии полковник Г. Г. Савокин, – что мой полк пройдет по горам и ущельям со скоростью марша до 65 км в сутки, с ограниченным запасом воды и с такой нагрузкой, я бы ни за что не поверил. Великий Суворов был мастером больших переходов, но он водил натренированных солдат, служивших 20–25 лет, а у меня в полку была молодежь 1927 года рождения. Так идти, как мы идем, могут только люди, обладающие высоким моральным духом».
А вот что говорилось в донесении о действиях войск 53-й армии: «Точно в установленный срок части и соединения армии подошли к Большому Хингану и тут же по горным верблюжьим тропам, по совершенно не известной местности, где никогда не проходили войска, начали форсировать его, не имея при этом ни точных географических карт этого района, ни проводников. Путь пришлось прокладывать через горы и заболоченные узкие долины. Потребовались огромные усилия, люди по несколько суток работали без сна и отдыха на устройстве дорог, проходов, взрывали скалы, засыпали овраги, на себе тащили через горы, по болотам и пескам машины, пушки, повозки, на руках переносили боеприпасы».
Войска генерал-полковника Плиева решали важную задачу – «упредить противника в захвате важнейших пунктов Большого Хингана в полосе наступления конно-механизированной группы…
Утро 12 августа было обычным. Из-за Хингана неторопливо выкатывалось солнце, похожее на огненный шар. С его появлением обитатели пустыни стараются держаться ближе к своим норам и пристанищам, сухостойные кустарники и травы сжимаются. Все вокруг затихает… Неожиданно подул резкий, каленый ветер.
– Песчаная буря! – крикнул кто-то.
Действительно, по лицу и рукам начали хлестать колючие, как крапива, песчинки. Еще мгновение – и все вокруг заволокло вздыбленной песчаной завесой. Ни вдохнуть полной грудью, ни глотнуть воды…
Буря стихла столь же неожиданно, как и началась. С трудом скинув бурку, я расправил омертвевшие мышцы, потянулся и… замер от изумления. Пустыня преобразилась. Редкая и приземистая растительность исчезла. Вокруг лежал бескрайнее море барханов – и ни одной живой души… Но вот рядом что-то зашевелилось, и из-под осыпавшегося песка показалась плащ-палатка… В следующий момент пески заколыхались, и, словно по мановению какой-то таинственной силы, барханы на глазах преобразились в воинов. И будто ничего не было. Снова гнетущая неподвижность раскаленного воздуха.
Все тропы, колонные пути через трудные участки, колодцы, которые мы начали рыть, – все оказалось засыпано песком. Но войска возобновили наступление и с еще большим упорством пробивались вперед».
Успешно развивались военные действия и на других фронтах. Началось мощное наступление в Северной Корее. «Основную задачу решила 25-я армия при взаимодействии с Тихоокеанским флотом, – писал Василевский. – 12 августа они овладели городами Северной Кореи Юки и Расин (Наджин). С выходом советских войск к Сейсину (Чхонджину) полностью нарушилась оборона Квантунской армии на приморском направлении. Были также осуществлены морские и воздушные десанты в ряде портов и городов Северной Кореи».
Ответ четырех великих держав на японское заявление поступил в Токио, когда там было уже 12 августа. Как его восприняли в Токио?
Около 5.30 утра Того домой принесли текст ответа союзников, как его передало агентство Ассошиэйтед пресс. Министр иностранных дел и его советники читали и перечитывали документ и приходили в замешательство. Вместо четкого ответа: «Да, императорская система правления сохраняется» там содержалась унизительная для императора формула, которая, как и остальной текст, могли только вызвать ярость военных. Того указал пальцем на параграф, касавшийся формы будущего правления:
– Это ключевое условие, которое труднее всего принять, – произнес он.
Было решено, что переводчики должны проявить чудеса изобретательности, чтобы на японском текст выглядел как можно менее вызывающим. Эксперты МИДа лихорадочно копались в англо-японских словарях в поисках более приемлемых слов. В итоге были смещены и смягчены акценты в ключевом вопросе – об императоре.
Было записано, что «власть императора и японского правительства будет ограничена Союзными Державами», а не подчинена им, как в оригинале. Это и стало официальной версией ноты, направленной министерством иностранных дел в правительство.
Но текст ноты обсуждали и в других местах. В 8.20 в штаб-квартире начальника штаба армии Умэдзу собрались генералы и старшие офицеры, которые пришли к заключению, что выдвинутые условия абсолютно неприемлемы. Начальники штабов армии и флота запросили аудиенцию у императора. Хирохито встретился с Умэдзу и Тоёдой в присутствии своего адъютанта генерала Хасунумы.