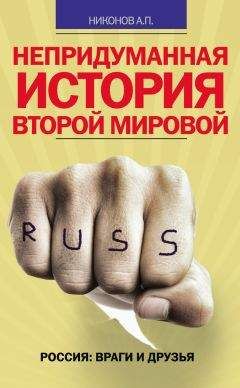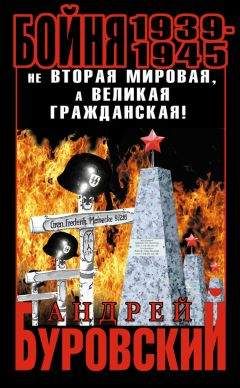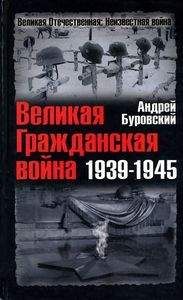От Второй мировой к холодной войне. Немыслимое - Никонов Вячеслав
Окончательный вариант «совместного» ответа японцам был направлен из Вашингтона 11 декабря без дальнейших согласований с Москвой. Сталину и Молотову оставалось только смириться с этим фактом. Как и с последовавшим 12 августа назначением Макартура Верховным Главнокомандующим в Японии. Генерал Дин назовет эту ночную схватку «самой важной победой Гарримана в Москве». Если удар по союзническим отношениям можно назвать победой, то она, безусловно, была достигнута.
Американский ответ отправили в Токио через японское посольство в Швейцарии. Пока же американские бомбардировщики продолжили уничтожать японские города.
Ночная дипломатическая схватка лишний раз доказала советскому руководству, что, как и в Европе, добиваться достигнутых договоренностей, тем более джентльменских, придется исключительно на поле боя.
Наши войска стремительно продвигались вперед. «Передовые части Забайкальского фронта уже к 11 августа подошли к западным склонам Большого Хингана, а подвижные войска главной группировки преодолели его и вышли на Центрально-Маньчжурскую равнину. Форсирование Хинганского хребта явилось подвигом, не имевшим себе равных в современной войне», – справедливо замечал Василевский.
Крупные успехи в Маньчжурии позволили советскому командованию 11 августа начать наступление на Южном Сахалине. Операцию проводили войска 56-го стрелкового корпуса 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта и Северная Тихоокеанская флотилия. Южный Сахалин обороняла входившая в состав 5-го фронта со штабом на острове Хоккайдо усиленная 88-я Карафутская пехотная дивизия, насчитывавшая 20 тысяч человек. Боевые действия на Сахалине начались прорывом мощного Котонского укрепленного района протяженностью 12 км по фронту и до 30 км в глубину. Советским войскам пришлось действовать в крайне сложной лесисто-болотистой местности, наступление велось вдоль единственной грунтовой дороги, которая связывала Северный Сахалин с Южным и проходила между каменистыми отрогами гор и заболоченной долиной реки Поронай.
Началась и мощная десантная операция на севере Корейского полуострова, о чем напишет адмирал Кузнецов: «Уже к 11 августа создалась благоприятная обстановка для высадки десантов в портах Юки (Унги – В.Н.) и Расин (Наджин – В.Н.), что и было сделано в течение двух дней, несмотря на плохую погоду. Захват этих портов позволил приступить к боям за Сейсин (Чхонджин – В.Н.). Для этого потребовались более крупные силы. В десант вошли 335-я стрелковая дивизия, 13-я бригада и 355-й батальон морской пехоты Тихоокеанского флота. Командиром высадки назначили капитана 1-го ранга А. Ф. Студеничникова, а десант возглавил командир бригады морской пехоты генерал-майор В. П. Трушин».
По мере наступления советских войск активизировались американо-китайские игры, призванные затруднить действия Москвы.
Высокую активность развивал Гарриман, пытавшийся вносить свой вклад в американскую военную стратегию в Японии. Накануне он направил Трумэну срочную телеграмму с рекомендациями, которые явно шли вразрез с ялтинскими соглашениями: «Генерал Маршалл и адмирал Кинг говорили мне в Потсдаме относительно высадки [американского десанта] в Корее и Дайрене в том случае, если японцы сдадутся до того, как советские войска оккупируют эти районы. Принимая во внимание поведение Сталина – он предъявляет завышенные требования Сун Цзывэню – я рекомендую осуществить эти высадки до принятия капитуляции японских войск – по крайней мере на Квантунском полуострове и в Корее. Я не считаю, что мы имеем какие-либо обязательства перед Советами в отношении любой зоны действий советских вооруженных сил. Генерал Дин согласен с этим». То есть Гарриман предлагал, чтобы Порт-Артур и Дальний оккупировали американские войска.
Начиналась хорошо знакомая по последним неделям войны в Европе «гонка» с целью упредить с занятием тех территорий, которые предназначались для действий советских войск. 11 августа Трумэн отдал приказ оккупировать порт Дальний после капитуляции Японии, «если к тому времени он еще не будет захвачен силами советского правительства». Эта директива президента, изданная еще до решения судьбы Дальнего в ходе советско-китайских переговоров и предусматривавшая, по сути, его захват независимо от их исхода, могла иметь следствием крайне серьезное столкновение между СССР и США. К счастью, американский десант проиграл в необъявленной «гонке за Дальний».
С подачи из Вашингтона Чан Кайши 11 августа выступил с требованием к японским войскам капитулировать только перед китайскими правительственными войсками, которые в экстренном порядке на американских самолетах и кораблях перебрасывались из западных и юго-западных районов страны.
В тот же день и командующий войсками компартии Китая Чжу Дэ отдал приказ всем войскам 8-й и 4-й Новой армии, дислоцированным в Северном и Центральном Китае, о переходе в наступление на всех фронтах, чтобы «быть готовыми принять капитуляцию». В ответ Чан Кайши приказал коммунистам «оставаться на своих позициях вплоть до получения инструкций». Повсеместно начались столкновения вооруженных сил компартии с гоминдановскими войсками.
Стремительное изменение ситуации на территории Китая заставляло форсировать советско-китайские переговоры, которые продолжались в Кремле. Молотов принял Сун Цзывэня и Ван Шицзе. Камни преткновения – что считать «железнодорожной собственностью», кто будет назначать начальников железных дорог, будут ли перевозимые по территории Китая советские военные грузы сопровождаться военным эскортом, каков будет статус Дайрена. Вновь договорились продолжить на следующий день.
Но и в тот день в Москве произошло неординарное событие.
Сталин после Потсдама больше уже не увиделся с действовавшим президентом США Трумэном. Но он виделся с президентом будущим. 11 августа в Москву прилетел генерал Дуайт Эйзенхауэр.
Историю появления Эйзенхауэра в Москве рассказывали и он сам, и Жуков. Наш маршал более скупо: «Во время Потсдамской конференции Сталин вновь заговорил со мной о приглашении в Советский Союз Эйзенхауэра. Я предложил пригласить его в Москву на физкультурный праздник, который был назначен на 12 августа… Поскольку он являлся моим официальным гостем, я должен был вместе с ним прибыть в Москву и сопровождать его в поездке в Ленинград и обратно в Берлин».
Свой первый и единственный визит в Москву Эйзенхауэр запомнил хорошо. «2 августа президент и сопровождавшие его лица выехали из Германии в Соединенные Штаты, – напишет Айк в мемуарах. – Спустя несколько дней мне сообщили из Вашингтона, что генералиссимус Сталин направил мне приглашение посетить Россию… Генералиссимус предложил, чтобы в рамки моего визита вошла дата 12 августа. Это был день национального спортивного праздника в Москве. Я был рад предоставившейся мне возможности увидеть страну, в которой никогда до этого не бывал, но еще больше я был рад тому, что это означало, что советское правительство было в такой же мере заинтересовано в развитии дружественных контактов, как и мы. Я быстро ответил согласием, и мне сообщили, что официально я буду гостем Маршала Жукова во время моего пребывания в Москве и что он будет сопровождать меня из Берлина в Москву.
Когда известие о моей предстоящей поездке разошлось по штабу, буквально десятки сотрудников выразили просьбу сопровождать меня. Принимая во внимание ограниченные возможности для размещения в Москве, я взял с собой в поездку только генерала Клея и моего старого друга бригадного генерала Т. Дейвиса. В качестве адъютанта на время поездки я хотел взять моего сына Джона, лейтенанта, который уже несколько месяцев служил на Европейском театре военных действий. Командир отпустил его. Сержант Леонард Драй, находившийся при мне всю войну, также вошел в нашу группу».
Если раньше Эйзенхауэр был уверен, что по вызванным войной разрушениям ничто не может сравниться с Германией, то пролетев из Берлина в Москву на низкой высоте, он кардинально изменил свое мнение. «От Волги до западных границ почти все было разрушено. Когда мы в 1945 году летели в Россию, я не видел ни одного целого дома между западной границей страны и районами вокруг Москвы… Некоторые крупные города были просто стерты с лица земли».