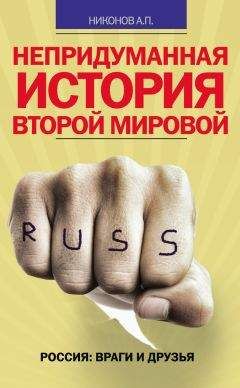От Второй мировой к холодной войне. Немыслимое - Никонов Вячеслав
– Разница наших взглядов на правительство Италии, с одной стороны, и на правительства Румынии, Болгарии и Венгрии – с другой, объясняется тем, что наши представители не имели возможности получить нужной информации в отношении этих последних стран, – пытался объяснить президент. – Но в представленном на рассмотрение документе мы попытались удовлетворить пожелание советской делегации и не поставить других сателлитов в худшее положение, чем Италию.
– Но с Италией вы имеете дипломатические отношения, а с этими странами не имеете, – напомнил Сталин.
– Но и другие сателлиты, – ответил Трумэн, – могут получить наше признание, если их правительства будут удовлетворять нашим требованиям.
– Каким требованиям? – настаивал Сталин.
– Относительно свободы передвижения и свободы информации.
– Ни одно из этих правительств не мешает и не может мешать свободному передвижению и свободной информации для представителей союзной печати.
Трумэн расширил список требований:
– Мы хотим, чтобы эти правительства были реорганизованы, и, когда они станут более ответственными и демократичными, мы предоставим им свое признание.
– Уверяю вас, что правительство Болгарии более демократично, чем правительство Италии.
Трумэн заверил:
– Чтобы пойти навстречу советским пожеланиям, мы предложили в отношении Румынии, Болгарии и Венгрии такую же формулировку, как и в отношении Италии.
– Но это предложение не включает восстановления дипломатических отношений.
– Я уже несколько раз говорил, что мы не можем восстановить дипломатических отношений с этими правительствами до тех пор, пока они не будут организованы так, как мы считаем нужным, – президент стоял на своем.
– Затруднения были раньше, теперь их нет, – возразил Сталин. – Нам очень трудно присоединиться к этой резолюции в настоящем ее виде. Мы не хотим к ней присоединяться.
Трумэн запомнил: «На этот раз развернулись самые ожесточенные дебаты конференции, суть которых сводилась к тому, что Сталин хотел, чтобы мы признали марионеточные правительства, установленные им в государствах-сателлитах, захваченных русскими армиями…
Черчилль сказал, что хотел бы замолвить слово об Италии. Он испытывал значительную симпатию к Италии, потому что там сейчас отсутствовала цензура, наблюдался значительный рост свобод и теперь на севере собрались проводить демократические выборы. Он не понимал, почему бы Большой тройке не обсудить с ними мирный договор. Что касается Румынии и особенно Болгарии, то он добавил, что англичане ничего не знают. Он утверждал, что их миссии в Бухаресте обладали статусом, близким к интернированию.
Сталин прервал его, чтобы спросить, как может Черчилль ссылаться на непроверенные факты. Черчилль сказал, что англичане узнали об этом от своих представителей. Сталин был бы очень удивлен, заявил он, прочитав длинный перечень трудностей, с которыми столкнулась их миссия там.
– Железный занавес, – бросился британский премьер-министр в атаку, – обрушился вокруг них.
Сталин прервал его:
– Все это сказки.
Черчилль ответил, что государственные деятели при желании могут называть высказывания друг друга сказками. Он выразил полное доверие своим представителям в Бухаресте и сказал, что условия в той британской миссии вызвали у него самое большое огорчение.
Я подтвердил, что в случае Соединенных Штатов мы также были весьма обеспокоены многочисленными трудностями, с которыми столкнулись наши миссии в Румынии и Болгарии. Обмен мнениями продолжался резко и продолжительно, и я предложил вновь передать этот вопрос на рассмотрение министров иностранных дел».
Вопрос о статусе Италии повис в воздухе. Трумэн перешел к обсуждению проблемы черноморских проливов, предложив расширить вопрос и рассмотрев проблему свободы навигации в целом. Сталин настоял на возвращении к конкретному вопросу о Босфоре.
– Свободное плавание через Черноморские проливы должно быть утверждено и гарантировано тремя великими державами, а также другими державами, – настаивал Черчилль, поддержанный Трумэном. – Гарантия свободного прохода со стороны трех великих держав будет гораздо действеннее, чем фортификация проливов.
– А как регулируется проход через Суэцкий канал, применяется ли к нему тот же принцип? – ехидно поинтересовался Молотов. Вопрос о Суэце был отрегулирован двусторонним англо-египетским соглашением.
– Суэцкий канал открыт для всех и в мирное время, и во время войны, – уверил Черчилль.
– Он находится под таким же международным контролем, который предлагается для Черноморских проливов?
– Этот вопрос пока не поднимался, – растерялся британский премьер.
– Если это такое хорошее правило, почему же оно не применено к Суэцкому каналу? – настаивал Молотов.
– Мы имеем с Египтом договор, который нас совершенно удовлетворяет. Он действует в течение 70 лет, и до сих пор жалоб не было.
– Жалоб было много, – напомнил нарком. – Об этом следует спросить Египет.
– Египет подписал с нами договор, – доказывал Черчилль.
– Вы же говорите, что международный контроль лучше. Мы тоже предлагаем заключить договор с Турцией.
Тут в разговор вступил Трумэн:
– Если свободный режим проливов будет гарантирован международным авторитетом, то никаких фортификаций в этих проливах не понадобится ни Турции, ни России.
Становилось ясно, что по вопросу о проливах западные партнеры не собирались отступать ни на дюйм. Турция превращалась в один из самых серьезных камней преткновения.
В связи с дискуссией о проливах Трумэн написал в мемуарах: «Молотов много говорил в Потсдаме… Говорил, как будто он и был Российским государством до тех пор, пока Сталин не улыбался и не говорил ему несколько слов по-русски, после чего он менял свой тон. Я нередко чувствовал, что Молотов скрывал некоторые факты от Сталина или не предоставлял эти факты до того момента, когда вынужден был это делать. Всегда было сложнее прийти к договоренности с Молотовым, чем со Сталиным. Если Сталин мог иногда улыбнуться и расслабиться, Молотов постоянно оказывал давление».
И Трумэна обманывала эта многолетняя игра советских лидеров в «доброго и злого следователя». Но не было ни одного вопроса, по которому Молотов занял бы более жесткую позицию в отношении Запада, чем Сталин. А конфликты между ними, как мы еще увидим, будут возникать исключительно на почве «либерализма» Молотова.
– Пожалуй, есть вопросы более безотлагательные, чем вопрос о проливах, и этот вопрос можно было бы отложить, – предложил Сталин.
– Я согласен отложить, если этого желает советская сторона, – ответил Черчилль.
И напомнил, что он и Эттли должны вернуться в Лондон на открытие парламента 8 августа.
– Во всяком случае, я не могу оставаться здесь дольше, чем до 6 августа, – заявил уверенный в своей победе на выборах Черчилль.
– Как только мы убедимся, что у нас нет больше работы, мы тоже поедем домой, – заметил Трумэн под общий смех. – Но пока работа у нас есть.
После бурного заседания 24 июля произошел один из знаменательных эпизодов истории, запечатленный во многих исторических книгах и фильмах о войне. Трумэн поведал Сталину об атомном оружии. Описали этот эпизод и все его участники, за исключением советского лидера.
В мемуарах президента мы читаем: «24 июля я между прочим упомянул Сталину, что у нас есть новое оружие необычайной разрушительной силы. Русский премьер не проявил никакого особого интереса. Все, что он сказал, это то, что он рад слышать об этом и надеется на „успешное применение его против японцев нами“».
Переводивший в Потсдаме для Трумэна Чарльз Болен запомнил сцену так: «В роли переводчика выступал Павлов, переводчик Сталина… Не я переводил сказанное президентом и потому не слышал, что он говорил. Поэтому я никогда не знал точно, в каком русском переводе реплика Трумэна дошла до Сталина. В целом Павлов был хорошим переводчиком, но ни в коем случае нельзя сказать, что он владел английским в совершенстве». Мы тоже не знаем, что точно сказал Трумэн и как его слова были переведены Сталину.