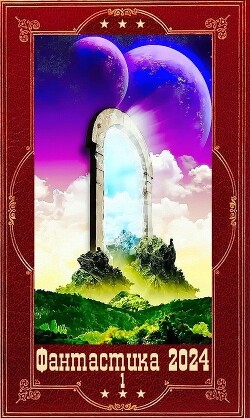Шипы в сердце. Том первый (СИ) - Субботина Айя
И сейчас я просто лежу и смотрю на спящего Авдеева. Не двигаясь. Боясь лишний раз вздохнуть, потому что могу сделать это слишком громко. Он абсолютно охуенно красивый. Даже сейчас, с растрепанными волосами, которые так любят мои пальцы, что в какой бы позе мы не трахались — я все равно нахожу возможность запустить их в авдеевские темные пряди. И с немного отросшей щетиной, и этой легкой морщинкой между бровей. Вадим спит тихо. Почти беззвучно. У него чуть приоткрыты губы, и я почему-то думаю, какой наверняка глупой и по-идиотски влюбленной в эту минуту выгляжу со стороны. И что, если вдруг он прямо сейчас откроет глаза — ему хватит одной секунды, чтобы все про меня понять.
Я веду себя как последняя дура, ровно как те героини в сериалах, которые всегда вызывали у меня только ядовитый смех, потому что их любовь казалась просто смешной и нелепой. А сейчас сама веду себя так же, и уже несколько минут уговариваю себя перестать залипать в глупые мечты. Не придумывать себе, что он не просто остался на ночь, а как будто он — мой. Хотя он никому не принадлежит до конца. Даже себе, кажется. И во всей его сложной жизни для глупой Барби место есть разве что в постели. Ну или на столе, который мы вчера чуть не развалили.
От воспоминаний о том, как мы набросились друг на друга, как только переступили порог моей маленькой квартирки, ломит между бедрами, но это такая охуенно приятная боль, что я непроизвольно опускаю пальцы под одеяло и трогаю себя там, надавливаю немного сильнее и закатываю глаза. Я хочу упиваться сладким послевкусие ночи. Мое Грёбаное Величество не просто меня трахал — он будто знал, что мне нужно и как. Где коснуться, как сжать, когда замедлиться. И сейчас мое тело каждой долбаной клеткой как будто откликается просто на воспоминания.
Я подаюсь импульсу, осторожно наклоняюсь носом к месту у него на шее под ухом, втягиваю сумасшедше приятный запах — его собственный, на котором легкая вуаль парфюма — просто как маленький штрих к главному «блюду». Ноги моментально сводит, во рту потоп от слюны. Хочется забраться сверху, разбудить его своим телом. Или руками. Или ртом.
Но пока я выбираю способ — в голову врезается вчерашний вечер. Так резко и беспощадно, словно внезапная мигрень без причины.
Гельдман. Его взгляд. Короткий момент, когда он остановился, узнал, и… ничего не сказал, потому что я до сих пор не уверена, было ли его «молодец, девочка» реальным, а не плодом моего истерящего воображения.
Сердце подскакивает к горлу. Паника медленно заползает под кожу, провоцируя новый приступ подступающей к горлу рвоты. Чертова психосоматика.
Но Гельдман меня точно узнал. И если он скажет… Если он скажет Вадиму — что будет? Я не успела ничего объяснить. Не успела даже понять, хочет ли он что-то сделать. Но он знает, чья я дочь, знает, что я «Барр», а не «Таранова», и этого достаточно, чтобы сделать абсолютно правильные выводы. В принципе, этого достаточно, чтобы сдать меня Вадиму с потрохами. «Эй, Авдеев, а ты в курсе, что эта красивая сучка у тебя в койке — дочурка Таранова, которого ты грохнул?»
Я осторожно выбираюсь из постели, чтобы не разбудить Вадима. Натягиваю его рубашку — слишком для меня большую, но почему-то все равно идеально сидящую. Медленно подгибаю рукава, разглядывая в зеркале, как дорогая шелковая ткань обтекает грудь и прикрывает бедра. Как будто я в ней — героиня мелодрамы с обязательным хэппи-эндом, а не фильма ужасов, в котором есть только одна концовка с обязательным кровавым месивом.
На кухню иду босиком. Пол под ступнями прохладный, но сейчас это только на пользу. Холод помогает собраться.
Открываю шкафчики, вытаскиваю все для завтрака — яйца, хлеб, масло, сыр. Привычные движения успокаивают. Я знаю, что делать руками. Но понятия не имею, что делать с едкой тревогой внутри, потому что с каждой минутой она становится все больше и уже почти упирается в диафрагму, как будто пытается сдавить легкие и задушить изнутри.
Может, стоит все бросить? Уехать. Сейчас. Просто исчезнуть. Сменить номер, найти билет — в Париж, в Стамбул, куда угодно. Главное — подальше от… Вадима.
Я отставляю миску, прячу лицо в ладонях и беззвучно смеюсь от того, насколько это глупо. «Подальше от Вадима». Куда, блядь, подальше, если я ношу его внутри как багаж, который слишком ценный, чтобы сдавать под номерок. Если он здесь, в груди, под кожей, в костях. Куда мне бежать, если Авдеев все равно будет на шаг впереди, как моя тень?
Я шмыгаю носом, смазываю дурацкие ванильные сопли и продолжаю взбивать яйца венчиком, как будто это и есть решение.
А может, просто все ему рассказать? Взять и сказать, как есть. Про отца. Про то, что я знаю — он его убил. Про то, что я с ним не просто потому, что захотела быть, а потому, что хотела отомстить. А теперь не знаю, как вырваться. Потому что втянулась. Потому что влюбилась.
Потому что хочу его не из-за прошлого, а вопреки прошлому.
Может быть, он поймет? Может, не захочет прикончить меня сразу?
Сглатываю, выливаю омлет на сковородку и яростно его расколачиваю до кремовых хлопьев. Кого я обманываю? Я боюсь не того, что моя правда превратиться в шесть досок и два метра земли сверху. Это все херня — потому что так я просто исчезну и не будет никакой боли. Я боюсь, что он просто вышвырнет меня в своей фирменной манере: «Иди нахуй, девочка» — и не будет ничего, кроме разрушительного безоговорочного ВСЕ.
Я загнала себя в угол, из которого нет выхода. И самый «идеальный» вариант — это просто подать моему любимому мерзкую правду на красивой тарелке, и ждать, что он просто размажет меня до состояния, когда уже не больно, а просто похуй.
Я слышу шаги за спиной, поворачиваюсь.
Вадим стоит на пороге, немного растрепанный, с хмурым, еще не проснувшимся взглядом, но уже с прищуром. От которого я тоже успела стать зависимой. Он в одних темно-серых боксерах низкой посадки, и я на секунду снова забываю, как дышать, любуясь его роскошным телом и длинными мускулистыми ногами, такими крепкими, что, кажется, у него один квадрицепс больше, чем моя талия. Голова сразу подкидывает воспоминания, как я люблю сидеть сверху, упираться в них ладонями, царапать, когда уже нет сил сдерживаться, но хочется еще капельку растянуть удовольствие.
— Пахнет завтраком. — Голос у него хриплый, чуть ниже обычного. Зевает, тянется, как большой ленивый кот, а потом расслабленно наваливается плечом на край арки. Синий взгляд скользит по мне сверху вниз, нахально и горячо, из-за чего у меня моментально поджимаются пальцы на ногах. — Ты в моей рубашке. Готовишь завтрак. Это даже чересчур киношно, Барби.
Я улыбаюсь. Не потому, что надо, а потому что не могу не улыбнуться. Таю как проклятый зефир. И на секунду забываю обо всем.
— А ты впервые у меня дома, — стараюсь придумать какой-то не очень сопливый ответ. — Получай «все включено».
— Вероятно, ответ будет отрицательным, но можно мне для начала зубную щетку?
Авдеев снова зевает, и когда приподнимается на носочках, растягиваясь еще раз, влетает макушкой в верхний край арки. Сухо матерится сквозь зубы, а я заливаюсь смехом, потому что впервые вижу на его красивом лице выражение досады. Такой, почти человеческой. Очень похожей на настоящую.
— Новая щетка рядом с раковиной, Тай.
Он скребет место ушиба и уходит, а я еще пару секунд залипаю на его шикарную спортивную задницу, туго обтянутую боксерами.
Щетку я купила несколько дней назад. Зашла за тюбиком зубной пасты, увидела розовую щетку с единорогом — и просто представила Авдеева с ней во рту. А, представив, уже не смогла вернуть ее на прилавок. Утром специально положила на видное место, жалея только о том, что у меня нет розовой ленточки, чтобы завязать подарочный издевательский бант.
Я выключаю сковородку, накрываю крышкой и крадусь к ванной.
Она у меня маленькая, Вадим занимает почти все свободное пространство, но я все равно протискиваюсь внутрь, и даже умудряюсь сесть на раковину, прямо у него перед носом. Вадим сосредоточенно чистит зубы, пытаясь делать вид, что меня в его поле зрения не существует, пока я пытаюсь делать вид, что голова единорога появилась на его зубной щетке совершенно случайно.