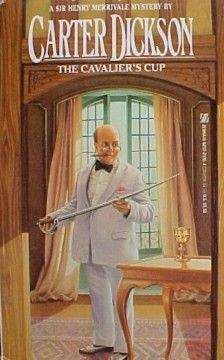Джон О'Хара - Время, чтобы вспомнить все
— Ну да? Л. Б. Блейна? Этого Блейна?
— Л. Б.? Да, мистера Льюиса Блейна.
— Неужели? Я с ним не был близко знаком. Удивляюсь, что он меня помнит. Он состоял в «Черепе и костях». У их семьи большой дом на Сити-Айленд. Очень состоятельные люди. Я не видел Льюиса Блейна уже лет двадцать. А Гюйон Бардуэлл? Встречал когда-нибудь такого? Он жил на Стейтен-Айленд, и, думаю, живет там и по сей день.
— Бардуэлл… Нет, не думаю. Но в этом году я ездил на Стейтен-Айленд. Красивое место.
— Красивое. Я, бывало, ездил туда навестить Бардуэллов. У Гюйона Бардуэлла была сестра Эми, которая вышла замуж за нашего одноклассника из Чикаго. Господи, сколько лет я не вспоминал об этих людях. Представляешь, все это было вскоре после Гражданской войны. Если бы война продлилась еще несколько лет, я бы в ней участвовал.
— Я знаю.
— Лью Блейн. У него был брат Иван, и мне всегда было любопытно, почему его назвали русским именем. У нас в классе были весьма занятные парни. В первые два года я был единственным студентом Йеля из Гиббсвилля. Наверное, такого никогда больше не было, чтобы в Йеле был один-единственный парень из Гиббсвилля. Были из Скрантона, Рединга, Гаррисберга. А из Гиббсвилля только я один. Так сложилось. Ребята вроде Лью Блейна никогда и не слышали о Гиббсвилле.
— Они и до сих пор о нем не знают, — сказал Джо. — Я понял, что не стоит тратить время и вдаваться в объяснения, — проще сказать, что ты из Филадельфии.
— Ты так говорил? Зачем ты это делал?
— Чтобы не тратить время на бесполезные объяснения.
— Но я не считаю это объяснение бесполезным. Есть, знаешь ли, такое понятие, как «вежливое любопытство», и если кто-то вежливо интересуется, откуда ты родом, то этот человек, наверное, достаточно вежлив, чтобы выслушать твое объяснение. И выглядел бы ты гораздо интереснее, если бы, вместо того чтобы сливаться с толпой филадельфийцев, сказал им, что ты из Гиббсвилля. Все эти люди знают Филадельфию, но представления не имеют о том, что такое Гиббсвилль.
— В этом-то, отец, все и дело.
— Тогда ты должен им рассказать.
— О чем же рассказывать? Маленький город в угольном районе Пенсильвании. Даже меньше Скрантона.
— И даже меньше, чем Уилкес-Барр. Но непохожий на Скрантон. И непохожий на Уилкес-Барр.
— Если бы я начал описывать доблести Гиббсвилля, боюсь, мои слушатели от меня сбежали бы.
— Тогда скажу тебе вот что: я очень низкого мнения об их воспитании. И если их не интересует ничего, кроме Нью-Йорка, Филадельфии и Бостона, я не очень-то высокого мнения об их уме. Важно не то, из какого города человек…
— Отец, именно это я и хочу сказать. Разве это вежливо — нагонять скуку на своих друзей рассказом о городе, в котором мне случилось родиться?
— И твоей матери, и мне, и обоим твоим дедам, и обеим твоим бабкам, и их родителям.
— Но некоторые знакомые ребята из Нью-Йорка, Бостона и Филадельфии принадлежат к таким старинным родам, что мне и не снилось.
— Во времена моей молодости встречались леди и джентльмены, у которых хватало воспитанности, спросив человека, откуда он родом, выслушать его ответ. И при этом они могли еще узнать кое-что стоящее.
— Что ж, мне, похоже, надо взять уроки по Гиббсвиллографии. Я даже точно не знаю, сколько людей здесь живет.
— Нет, уроков брать не нужно, но тебе, похоже, не мешает отполировать свои манеры, и начать с уважения к отцу.
— Прошу прощения, отец.
— Думаю, что твое извинение искренне, и я его принимаю.
— Спасибо.
— А население Гиббсвилля семнадцать тысяч человек, в основном англичане, немцы, уэльсцы и ирландцы.
— Спасибо.
— И жить в этом городе очень хорошо. Я надеюсь, что ты и сам когда-нибудь это поймешь.
Беседа эта, состоявшаяся летом после окончания Джо Йельского университета и перед его поступлением в Пенсильванскую высшую юридическую школу, была весьма типичной дискуссией отца и сына Чапинов. Начиналась она обычно весьма дружелюбно, затем становилась нетерпеливой и нервозной, постепенно переходя в язвительную, после чего шли извинения и, наконец, запоздалые попытки отца обратить все в шутку.
Бен Чапин, вне своей адвокатской работы, был необычайно одинок. Сила, энергия и либидо, свойственные мужчинам среднего возраста, о которых его жена рассказывала сыну, были присущи и Бену Чапину, но после второго мертворожденного ребенка Шарлотт навсегда покинула постель Бена. Не было ни драматической сцены, ни театральных заявлений, а всего лишь один-единственный разговор.
— Шарлотт, — сказал как-то вечером Бен, — мы не могли бы снова спать в одной комнате?
— Не думаю, Бен.
— Мне тебя не хватает.
— Я догадываюсь. И мне тебя тоже не хватает, но я знаю, к чему это приведет. А если ты будешь один, этого не случится.
— Шарлотт, но я ведь не старик. Пока еще не старик.
— Нет, и я тоже не покойница. Но я ею стану, если мне придется пройти через еще одни роды и во время их повторится то же самое.
— Я понимаю.
В течение последующих десяти лет Бен через неравные промежутки времени отправлялся в Филадельфию в публичный дом на Арч-стрит, где слегка выпивал перед тем, как лечь в постель с одной из девиц, и как следует напивался после этого. Поскольку хозяин и хозяйка этого заведения проявляли постоянную бдительность, место это было не из дешевых. Если хозяева узнавали, что девица больна, ее выгоняли; если она заговаривала с клиентом на улице, ее выгоняли. И нового клиента обязательно должен был представить старый клиент. Молодых людей старше двадцати, но моложе тридцати туда не пускали, однако тех, кто был старше тридцати, пускали без ограничения. Девицы там соглашались на любые извращения, за исключением тех, что вызывали кровопролитие или ожоги. Бен Чапин был человеком без затей, и его потребности тоже были незатейливыми. После того как Бен, отоспавшись, трезвел, он возвращался в свой отель и проводил там день-другой, пока не чувствовал себя в состоянии вернуться в Гиббсвилль и вести себя так, чтобы жена не заметила, как он ее ненавидит.
После того как десять лет подряд Бен наносил визиты на Арч-стрит, его потребность в них перестала быть столь настоятельной и стала воплощаться в снах. А затем в одном из вашингтонских отелей с ним случилось то, что положило конец его явной сексуальной жизни. Бен спустился в столовую позавтракать, потом вернулся к себе в номер, лег на неприбранную постель и принялся читать газету. Он задремал и вдруг проснулся, услышав, как горничная открывает ключом дверь. Когда дверь открылась, он увидел ее — красивую негритянку лет тридцати или чуть старше.
— Иди сюда, — сказал он.
— Сэр, я приду попоже.
— Иди сюда.
— Не могу. Мене уволят.
— Я дам тебе пять долларов.
— Нет, сэр. Десять долларов.
— Ладно, десять долларов. Запри дверь и иди в постель.
— Чего вы мене сделаете?
— Ты знаешь, что я тебе сделаю.
— Вы мене сделаете больно?
— Я не сделаю тебе больно. Снимай одежду. Быстро.
Она послушалась и легла на кровать.
— Вы снимете вашу одежку?
— Нет, — сказал он.
Он вошел в нее, и через несколько секунд все было кончено.
— Ладно, теперь уходи.
— И это все? Я хочу мои десять долларов.
— Дам тебе десять долларов, только уходи.
— Хорошо, сэр. Мене заново прийти?
— Нет, черт подери! Оденься и уходи.
— Сэр, я не хочу, чтобы вы серчали на мене. Не моя вина, что вы такой спешный. Но ведь это все равно, вы спешный или неспешный: может ведь быть ребеночек.
В его жизни это был единственный бесконтрольный порыв страсти, и возможные последствия напугали Бена так, как ничто и никогда его не пугало. Его не пугал шантаж: он знал, что шантаж горничной-негритянки не имеет никаких шансов на успех, — но в его прошлом опыте не было ни единого признака, предупреждавшего его о том, что он потенциальный насильник. Его прошлые отношения с женщинами ограничивались Шарлотт и проститутками с Арч-стрит, и если говорить начистоту, Шарлотт была куда более страстной, чем продажные женщины. Ему и в голову не приходило, что он способен попасть в беду из-за изнасилования. Однако он прекрасно сознавал, что если бы горничная не отдалась ему за деньги, он бы взял ее силой. Появилась реальная опасность, и теперь о своих отношениях с женщинами он уже думал со страхом. Таким образом, эта горничная оказалась последней женщиной, получившей семя Бена Чапина. Он держал это в тайне, но нередко испытывал соблазн поделиться этой тайной со своей женой.
Однако Бен не был уверен, что хочет ей отомстить. Он понимал, что Шарлотт ускоряет его старение и отравляет его последние годы. Но Бен был тонким человеком и сознавал, что его жена не в состоянии уловить истинную причину своего поведения, за которым крылся не только страх родить недоразвитого или мертвого ребенка, но и ее помешанность на сыне и его жизни. Бен был осведомлен о понятии преступного кровосмешения, но отсутствие акта кровосмешения не исключало возможности его желания независимо от того, насколько чудовищно нелепой эта идея могла показаться самой Шарлотт (и Бену, пока он не поверил в ее вероятность). По мере того как ненависть Бена становилась реальной и прочно в нем утверждалась, он все яснее и яснее понимал, что Шарлотт женщина ограниченная, если не сказать глупая, а его мальчик — существо красивое и умное, но лишенное теплоты. Джо не был холодным — холодные люди не способны на страсть, — но он был лишен теплоты. Порой ночами, лежа в постели и мучаясь бессонницей, однако боясь напиться из страха, что он может изнасиловать свою жену, Бен размышлял о том, что орудием его мести Шарлотт станет их сын — сын, лишенный теплоты. Он, Бен, вероятно, до этой мести не доживет, но месть эта скорее всего свершится. И когда Бен открыл для себя эту парадоксальную возможность того, что любимый сын причинит страдания своей любящей матери, он стал спать намного спокойнее.