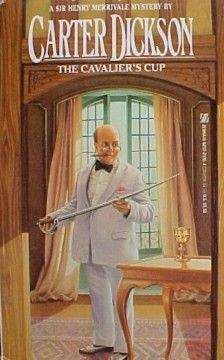Джон О'Хара - Время, чтобы вспомнить все
— А пиво можно?
— Не знаю. Я сама об этом думала. Мы узнаем, принято это или нет. Я не хочу, чтобы люди считали тебя чудаком. Давай вернемся к вопросу о деньгах. На что ты их тратишь? Твои счета за одежду приходят к нам.
— Ну, я купил два свитера. Один стоил два с половиной, а другой — три доллара. И флажки для моей комнаты.
— Ты купил их в «Лоуер Мидлер».
— Ну и еще кое-какие вещи вроде этого. Я все время что-нибудь такое покупаю. Что же еще? А, мы собрали деньги на подарок нашему тренеру по бейсболу.
— Это хорошо. Что еще?
— Трудно даже сказать. Но у нас все время какие-то мелкие расходы. И у нас все время на что-то собирают деньги. Еще свитера и бейсбольные перчатки. И обычные перчатки. Я все время теряю перчатки… а может, мальчишки крадут их.
— Что ж, похоже, мне не дознаться, на что ты тратишь свои деньги. Главное — не трать их на то, что не нужно. Это все, что я хотела узнать. И всегда покупай самое лучшее. Купить что-нибудь хорошее дешево почти невозможно.
— Я тоже считаю, что покупать надо самое лучшее.
— Мы с твоим отцом всегда так считали.
— С отцом? Я знал, что ты так считаешь, но мне казалось, отцу это безразлично.
— Я не знаю, откуда ты это взял. Почему ты так решил?
— Ну… Я не знаю. Мы богаче, чем семья Мак-Генри, а дом у них красивее нашего.
— Не смей никогда больше этого говорить! Ты слышишь?
— И вещи у них новее.
— Я не возражаю против того, что ты сказал об их доме. Я возражаю против твоего сравнения нашего достатка и достатка семьи Мак-Генри.
— Но разве мы не богаче?
— Я не знаю… да, мы богаче, но что с того? И где ты такое услышал?
— Мне это сказал отец Артура. Он так всегда говорит, когда у меня что-то есть, а у Артура нет. Он говорит, что мы можем себе это позволить, потому что мы богаче.
— Я никогда не слышала, чтобы Артуру в чем-то отказывали.
— Я знаю. Просто мистер Мак-Генри скупой, а ты — нет. Он ужасно скупой, этот мистер Мак-Генри.
— Я не хочу, чтобы, говоря о старших, ты называл их такими словами, как «скупой», и не важно, кто они такие.
— Но он именно такой и есть.
— Я же сказала, что не хочу, чтобы ты пользовался этим словом.
— Я и не пользовался. Я просто сказал, что он именно такой и есть. Я этим словом не пользовался.
— Джо, ты хитрец, ох какой хитрец. Ты действительно станешь адвокатом.
— Когда я им стану, то, надеюсь, буду лучше, чем некоторые.
— Все! Больше ни слова!
— Мам, почему это? Ты же не знаешь, кого я имел в виду.
Выражение «не по ту сторону железной дороги»[22] в Гиббсвилле так и не прижилось. Граждане Гиббсвилля прекрасно знали, что пока хоть один член семьи Чапин живет на Северной Фредерик, «не та сторона» была намного предпочтительней противоположной стороны, и потому выражение это теряло всякий смысл. Например, улицы Гиббсвилля, в наименовании которых использовались названия деревьев или какого-то числа, никогда не были и не будут ничем иным, кроме адресов людей среднего класса и бедняков. На Северной Фредерик жили два сорта людей: люди издавна богатые, чье присутствие придало вес этому адресу, и все остальные.
Отправляясь в магазины, банк, к врачу или на встречу с друзьями в часть города, расположенную на западной стороне железнодорожных путей, богатые, как и все остальные, должны были проходить мимо тех же самых уродливых кварталов. И так было еще до того, как проложили железную дорогу; во времена Старого Канала это была та часть города, куда дамы и не заглядывали. И как в любом городке и почти в каждом крупном городе, район возле железнодорожной станции становился преступным, кишащим ворами, сводниками, хулиганами и проститутками. Когда путешественник приезжал в Гиббсвилль, первое и последнее впечатление — как от любого американского городка — наводило его на мысль, что в своем родном городе ему было бы спокойнее, при том что в его родном городе условия жизни ничуть не отличались от тех, что в Гиббсвилле. Железнодорожное авеню было улицей притонов, а перекресток Кристиана-стрит и Железнодорожная авеню — местным центром преступности и насилия.
И именно через этот район Шарлотт Чапин надо было пройти по дороге к Мейн-стрит. Ее визиты на Мейн-стрит были нечастыми, а пешеходные походы туда редкими, так как в ее распоряжении всегда были коляска или сани. А ее походы мимо Кристиана-стрит и Железнодорожной авеню без сопровождения случались и того реже. Но они все же случались. И она не забыла ни одного из них, а было их всего два.
Шарлотт исполнилось двадцать лет, она недавно вышла замуж, и однажды весной 1881 года, в теплый, солнечный полдень, она заявила кучеру, что в офис мистера Чапина пойдет пешком. И хотя, по прежней договоренности, Коннелли — так звали их кучера — должен был отвезти Шарлотт в офис мужа и оттуда, забрав мистера Чапина, к кому-то на свадьбу в церковь Святой Троицы, Шарлотт велела кучеру встретить ее возле офиса.
— А я, мэм, поеду за вами следом в коляске? — спросил Коннелли.
— За мной следом? Зачем? Я не собираюсь падать в обморок.
— Там же Кристиана-стрит и Железнодорожная, мэм.
— Не думаю, что среди бела дня кто-нибудь станет ко мне приставать, — сказала Шарлотт Чапин.
— Я всегда от них ожидаю самого худшего, мэм.
— Спасибо, Коннелли, что вы обо мне заботитесь, но со мной ничего не случится.
И она улыбнулась Коннелли — он был ей симпатичен.
— На здоровье, мэм, но вы все же не возражайте, чтобы я за вами следовал. Если я этого не сделаю, хозяин с меня шкуру спустит.
— Хорошо, — сказала Шарлотт.
Она пустилась в путь, и все шло гладко, пока она не дошла до угла Кристиана-стрит и Железнодорожной, северо-западного угла, на котором стоял салун «Датч Амрингенс». На лето в нем установили распашные двери, и на подвешенной над входом, выцветшей от времени вывеске красовались крупных размеров портрет козла и надпись: «Продаем пиво „Бок“». В этом квартале над тротуаром перед входом в каждое заведение нависал козырек, и хотя в Гиббсвилле это не было такой уж редкостью, здесь благодаря подобным козырькам пешеходам казалось, будто они, проходя мимо «Амрингенс» и подобных ему местечек, хотят того или нет, уже почти что внутри. Одетым в длинные юбки и изящные наряды ходить по заплеванным, усыпанным окурками кирпичным тротуарам было весьма опасно. Для песен и крикливых разговоров, не утихавших в этом квартале Кристиана-стрит по вечерам и ночам, было еще рано, но из салуна уже доносились голоса: грубая речь и буйный смех. Несколько мужчин, примостившись на пивных бочках перед входом в «Датч Амрингенс», покуривали дешевые сигары, а сплевывали на тротуар. И, как всегда, здесь с трудом можно было пройти по улице, поскольку множество мужчин стояли у кромки дороги и вдоль зданий, а некоторые, болтая, прямо посреди тротуара, вынуждая прохожих обходить их стороной. В царившей здесь атмосфере любой почтенный гражданин рассматривался как правонарушитель.
В ту минуту, когда Шарлотт проходила мимо двери, соседней с «Датч Амрингенс», из мужской парикмахерской «Ринальдо» вышел подстриженный и свежевыбритый, крепкий с виду рыжеволосый мужчина лет тридцати, одетый в дешевый, хотя наверняка свой самый лучший костюм и явно полупьяный. Поначалу казалось, что он хочет уступить Шарлотт дорогу, но когда он отклонился вправо, она нечаянно отклонилась в ту же сторону, а когда она тут же отклонилась в противоположную, он отклонился вслед за ней.
— Деточка заигрывает, — пробормотал он. — Ну-ка поцелуй меня.
— Убирайся прочь с дороги, мерзкий мужчина! — сказала Шарлотт.
— «Убирайся прочь с дороги, мерзкий мужчина». А у тебя есть такая маленькая «кисочка»? Есть, а?
Теперь он уже намеренно преградил ей дорогу.
— Прочь! — закричала она.
— Хочу увидеть твою маленькую «кисочку», — сказал мужчина.
Шарлотт развернулась назад, готовая бежать обратно домой, но толпившиеся вокруг бездельники почти мгновенно заметили эту сцену и принялись громко смеяться. Рыжеволосый мужчина, воодушевленный их смехом, потянулся к Шарлотт и схватил за руку. В эту минуту Коннелли, ехавший вслед за Шарлотт, соскочил с козел коляски и ударил рыжеволосого хлыстом по голове. Мужчина, обливаясь кровью, упал на тротуар. Шарлотт ринулась к коляске. Коннелли, пятясь и размахивая хлыстом, двинулся вслед за ней, вскочил на козлы, и коляска укатила. Они добрались до Мейн-стрит прежде, чем бездельники успели организовать ответную атаку на Коннелли, и потому атаки не последовало. Для многих из этих бездельников между Железнодорожной авеню и Мейн-стрит начиналась полицейская зона, и за границей этой зоны им немедленно грозил арест, тридцать дней в окружной тюрьме, а между арестом и вынесением приговора жестокие побои. Поэтому неприкосновенность этой границы тщательно соблюдалась.