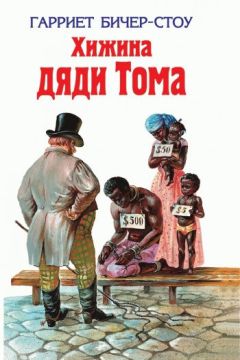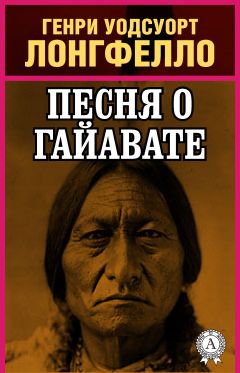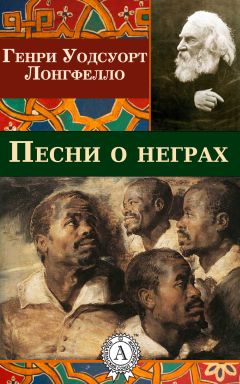Михаил Ландбург - Посланники
Мы продолжали жить этой жизнью, ибо другой у нас не было, и если не так давно нас терзала мысль, почему такое случилось, что прежнюю жизнь у нас отняли, то теперь ответ был каждому ясен – нас достаточно выразительно выдавали торопливо-стыдливые взгляды, которыми мы друг с другом обменивались. "Прозевали, прошляпили, запутались в ногах у Дьявола…" - молчали эти покаянные взгляды.
По ночам на нарах перекатывались вздохи –
тяжёлые,
сдавленные,
обречённые.
Проливалась слеза.
Тоска сгибала плечи.
Страхи как-то забавляли – всё-таки чувства…
Боли как-то бодрили – болит, значит живы…
Сознание своей никчёмности изумляло – до чего дошли…
Люди на нарах думали, что я много знаю и ждали советов.
Остановив взгляд на мне, Георг Колман прокричал –
тоскливо,
протяжно,
надрывно.
- Допустим, что я…
- Попытайся…- напутствовал я.
- А если…
- Тогда повремени…
- А вдруг мне только кажется, что я…
- Собой пренебреги…
- Я всё же надеюсь, что…
- Попытайся…
- Но, как видно…
- Не смотри…Так будет лучше…
Когда-то меня поразила мысль Достоевского: "Никакие гармонии, никакие идеи, никакая любовь или прощение; словом, ничего из того, что от древнейших до новейших времён придумывали мудрецы, не может оправдать бессмыслицу и нелепость в судьбе отдельного человека"*
Тогда –
я отмахивался от этих строк.
Теперь же –
раздумывая над уделом моего поколения, я не раз возвращался к этим строкам, полностью признавая их горькую правду, и, видимо, не случайно мне снились пролетающие надо мной стаи уродливых птиц Гойи.
Генриху Хуперту по ночам снился всемирный потоп, а Элиас Копеловски тихо скулил, глотая слёзы. Я догадывался: "Старается выйти из границ человеческого удела". Однажды, когда голосом, напоминающим плач заброшенного, полуслепого котёнка он попросил, чтобы ему объяснили, в чём наша провинность, Цибильски приспустил штаны и указал на то самое, в чём…Копеловски внимательно посмотрел на это, и, обратившись ко мне (как к психологу), пробормотал:
- Ганс Корн, скажи ты: что в мире происходит?
Я сказал:
- В мире проводится мерзкий опыт. Оргия духа…
- Фи! - обмяк Копеловски. - И как нам жить теперь?
Профессиональный долг требовал от меня разъяснений.
- Прежде, чем задавать вопрос "как жить?", психология советует человеку спросить себя "зачем жить?".
Копеловски спросил:
- Зачем жить?
Я закашлялся.
- Не можешь сказать? - наседал Копеловски.
Я продолжал кашлять, ибо столь забавный вопрос ответа не предполагает, и, кроме того, я всегда помнил об афоризме Людвига Витгенштейна: "О чём невозможно говорить, о том следует молчать".
Беспокойно посмотрев по сторонам, Георг Колман скорбно проговорил:
- Уж лучше умереть.
Курт Хуперт ногтем постучал по нарам и озабоченно произнёс:
- Эй, дружище, с желаниями не заигрывай – иногда они исполняются.
Копеловски мрачно проговорил:
- Жизнь…Я вот пытаюсь разобраться…
- Пустое дело! - ухмыльнулся Цибильски. - В жизни более или менее разбирался лишь Гёте. Он один знал о жизни всё, и в своём "Фаусте" высказался…
- А о Биркенау высказался?
- Нет, о Биркенау, вроде бы, нет.
- Тогда что мог знать Гёте о жизни?
Цибильски опустил голову.
- Вообще-то, все авторские права на спектакль под названием "Жизнь"
*Ф.Достоевский "Записки из подполья"
принадлежат Богу. Он же и Главный Зритель, наблюдающий за тем, как мы со своей ролью справляемся. Театры сменяют друг друга, вместе с ними меняются актёрские коллективы, и только сценарий сохраняется в первозданном виде.
- Так разве мы не послушны? Не вертимся? - брюзжал Копеловски. - Чего же Ему ещё?
Цибильски чуть полаял, немного похрюкал и, оттянув щеки, высунул язык.
- Не понял! - у Копеловского получился не выкрик, а безголосая вибрация.
Цибильски пояснил:
- Мы, конечно, вертимся, только не по Его сценарию. Играем слишком поверхностно, легковесно…Шекспир, правда, ещё до меня выяснил, что жизнь – это бред, а мир – театр, но только единственному мне, Цибильскому, удалось заметить, что мы-то в этом спектакле всего-навсего участники массовки…
Георг Колман кивнул на двери барака.
- Нас окружают чудовища и топчут наши души, с нами делают то, что против природы, и выходит, что теперь мы не вправе называть себя людьми?
- Ха-ха-ха, - замахал руками Цибильски, - а кто сказал, что тогда, притворяясь близорукими, глуховатыми, едва вменяемыми, мы ими были?
- И всё же, - жалостливо заговорил Генрих Хуперт, - почему Бог не спасает нас от этих чудовищ?
Цибильски изумился:
- От чудовищ, которых Он сам и слепил? Разве что, если составим с Ним новый контракт и подпишем в присутствии нотариуса.
Генрих Хуперт поделился своим сном:
- Прошлой ночью мне показалось, что я готов предстать перед Создателем. Но не предстал. Принят не был…
- Разумеется, - пояснил Цибильски. - Приёмные часы Создатель держит в строгом секрете.
Копеловски, разглядывая свои ссохшиеся башмаки, пробормотал:
- Говорят, гуси Рим спасли. Может, гуси спасут и нас тоже?
- Ну да, Гуси, - подхватил Цибильски, - больше некому.
Копеловски прокричал:
- Хочу чувствовать ещё… Всякое…Разное…
- Наш лимит на чувства, вроде бы, вышел…- сказал я.
- У меня какой-то ком в душе, - стонал Копеловски.
Цибильски внёс поправку:
- Ты хотел сказать "в горле"? Можно позвать коменданта лагеря – он охотно выжмет для тебя стакан апельсинового сока.
- Странно, - прошептал Георг Колман, - человечество совершенствуется, а человек деградирует…
Генрих Хуперт схватил меня за руку и, приблизив лицо, хриплым голосом проговорил:
- Я знаю, что всему своё время…Были средние века, даже древние века, но люди каким-то образом всё же удавалось…
- Ты ненормальный! - заметил я.
- Почему ты так считаешь?
- Потому что никому никогда не удавалось. Даже "каким-то образом"…
Хуперт шмыгнул носом.
- Такое в мире надолго? - спросил он.
Я укоризненно покачал головой.
- Разве время можно измерить, приостановить или от себя оттолкнуть? Такое продлится до тех пор, пока смысл жизни на самом деле не определится.
Хуперт продолжал держать мою руку.
- Как ты считаешь, нацисты знают, насколько они ненавистны?
- Конечно! А иначе, какой смысл в нашей к ним ненависти?
Вмешался Георг Колман:
- Говорят, что смысл жизни в страдании и даже в смерти.
Хихикнул Цибильски:
- А как быть мне, если я бессмертен? У меня остались мои дети. Они сделают других детей. А те – ещё других. И навсегда останусь в них я…
Я ощупывал своё измождённое тело, гадая, дотяну ли до утра или до вечера, а в минуты невыносимой подавленности упрекал доставившие меня в этот мир акушерские щипцы. В груди похолодело: "А в ком останусь я?" "Напрасно, - подумал я о моих родителях, - напрасно они меня зачали. Вот и Софокл утверждал, что "не родиться совсем – удел лучший"*.
Иногда я предпринимал попытки представить себя в роли родителя. Дети…У меня свои дети…
"Мира, прости, любимая! У нас с тобой уже не получится…А может, так даже лучше – зачем посылать в этот мир новых страдальцев?"
Видимо, ошибку со мной родители совершили случайно, ненароком, или же по причине вмешательства Создателя. Подскажи Он им в те самые мгновения, что основное назначение в этом мире людей заключается в заботе о жратве и взаимном истреблении, порекомендуй Он моим родителям почитать Освальда Шпенглера, то…
В мозгу щёлкнуло: "Хорошо бы не понимать, где ты, зачем ты, а ещё лучше – не стать вообще…"
Кажется, к этому шло…
Теперь –
меня, в основном, занимали мысли о миске тёплой баланды и ломтике черствого хлеба.
Теперь –
меня душили ночные страхи.
Теперь –
меня поедали полчища вшей.
Теперь –
всегда голод,
всегда холод.
Теперь –
окриками поднималась сумрачная рань.
Теперь –
в глазах выражение смятения,
голова без мыслей,
душа без чувств.
Теперь –
если мысли, если чувства, то лишь нелепые…
Теперь –
мы стали походить на затравленных пауков и тараканов.