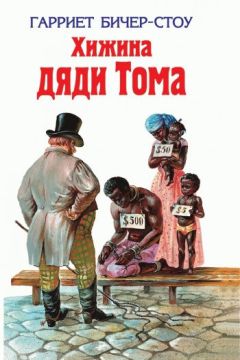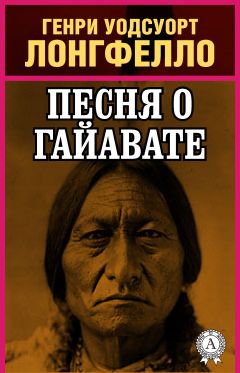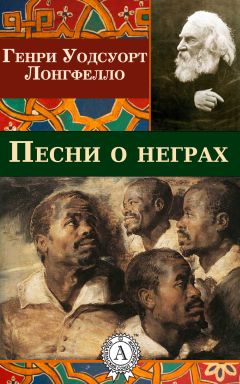Михаил Ландбург - Посланники
По палубе метался огромного роста мужчина, но вдруг останавливался и, судорожной рукой подёргивая себя за бороду, заглянул за борт. Затем он снова метался по палубе и, озираясь по сторонам, сотрясался в трубном смехе. Было не понять – смеётся он над собой или над кем-то. Вокруг него кружила крошечная женщина и, размахивая листком из школьной тетради, неустанно повторяла: "Вот они здесь, вот они следы пальчиков моего сына. Вы не встречали моего сына?"
Я подумал: "Тяжело быть родителем".
Затем подумал: "Нелегко быть сыном".
Почувствовав на себе упрямый, пристальный взгляд человека в длинном кожаном пальто и чёрной шляпе, я направил на него встречный, однако совершенно спокойный взгляд. Уж я-то, как психолог, отлично знал, что взгляд одного, отражённый в другом, так или иначе преломляясь, искажается, а потому, как бы пристально ни пытался человек в кожаном пальто заглянуть в меня, он не смог бы меня увидеть таким, каким я вижу себя сам. Скрываемые в нашем мозгу страхи, желания, надежды увидеть извне никто не может. Даже самый мощный рентген…
Я ощутил невыносимую тоску и подумал: "Ничто не побуждает к столь острой необходимости общения, как одиночество". Прошептав имя моей девушки, я несколько раз повторил строку из Песни Песней: "Положи меня, как печать, на сердце твоё".
Психология и философия…
Добро и зло…
Жизнь и смерть…
Душевное и бездушное…
Истина и ложь…
Преданность и предательство…
Правила и исключения…
Я вновь задремал –
я бежал, что-то выкрикивая, но вдруг остановился, решив заставить себя выяснить, куда бегу и о чём кричу. И тут я увидел перед собой писателя Достоевского. Он, как и я, шёл по воде, Он шёл не торопясь, но, поравнявшись со мной, спросил, не играю ли я в рулетку. Я сказал, что в детстве играл на губной гармошке. Достоевский бросил взгляд на мой лоб и проговорил: "Разумеется, я не пробью стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило". Я пришёл в недоумение и спросил я себя: "О какой стене он говорит?" Не найдя ответа, я спросил писателя: "Разве наша жизнь принадлежит не нам?" Достоевский сморщил лоб, сложил губы в трубочку и сильно подул на меня.
Проснувшись, я увидел в углу палубы пожилую пару. Странно, но мужчина, тряся головой сверху вниз, ничего иного не произносил, кроме как "да-да-да"; женщина же, тряся головой слева направо, произносила лишь одно "нет-нет-нет".
По палубе бегали странные тени.
***
Власти Финляндии, сколотив из евреев-беженцев бригаду, отправили её на строительство железной дороги в Лапландию. Рядом с лагерем Куусиваар, куда нас поселили, расположилась дивизия СС "Норд", и вскоре нашу строительную бригаду перевели на остров Суурсаари.
Мы дышали, мы жили, полагаясь на заверения маршала Маннергейма, но однажды начальнику городской полиции пришла в голову мысль, что мы "не свои" евреи, а чужие, австрийские, а это дело меняет…
В наше жилище ворвались полицейские.
- Простите, - недоумевал Элиас Копеловски, - с какой стати?
- У меня на ваше племя аллергия, - скаля зубы, проговорил полицейский.
Нас вывели на улицу и втолкнули в накрытый брезентом фургон. Можно было выть, колотить себя в грудь – ничего иного не оставалось.
- Но это полнейший произвол, - сокрушался Копеловски. - Неужели финская полиция посмеет передать нас гестапо?
- Посмеет…- кивнул Цибильски. - Мы обожглись, промахнулись, попались...
Я вспомнил строки из Экклисиаста: "Человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них"*
- Какой ужасный спектакль! - повысил голос Копеловски. - Любопытно, кто автор?
- Кафка, - хмыкнул Цибильски. - Кто же, если не он?
В дальнем углу фургона я заметил человека с разбитым лицом.
- Который час? - спросил я.
- Какая разница? - ответил он и в свою очередь спросил, не коммунист ли я.
- Нет.
- Выходит, еврей?
- Умница, сообразил! А кто ты?
- Был журналистом, - смахнув с лица кровь, сказал он. - И вот – современная цивилизация….Что случилось с моей профессией – не понимаю. Жить можно в любых условиях, но ведь не любой ценой…
"А фердишер коп, - пробормотал Цибильски, - Эр вил ништ фарштейн".**
- Господи, помилуй! - вздохнул Копеловски.
Цибильски коснулся плеча Копеловского и пояснил:
- Случаются времена, когда Бог распределением милостей не занимается.
Журналист сморщил лицо.
- Вот так всегда, люди доставляют друг другу зло сами, а прощения ждут от Господа Бога.
Генрих Хуперт взвинтился:
- Бог! Может, Он с гестапо заодно?
- Война…- с отчаянием в голосе произнёс Колман. - Зачем эта напасть?
Цибульски процитировал Филиппо Маринетти: "Война – это гигиена мира".
Колман спросил:
- Этот Филиппо врач, что ли?
* Кн. Екклесиаста гл.4:1
**(идиш) Лошадиная голова. Он не хочет понять.
- Нет, - хмыкнул Цибильски, - просто итальянский негодяй.
Копеловски всплакнул.
- Плачь, Копеловски, плачь, - утешал я. - В древности врачи предписывали депрессивным больным лечение слезами. Мир познаётся не умом, а нутром.
Прижимая к груди младенца Франца, Георг Колман угрюмо произнёс: "И увидел я всякие угнетения, какие делаются под солнцем… А утешителя нет…В руке угнетающих – сила, а у угнетённых утешителя нет"*.
Фургон остановился.
"Хераус!" - сказали нам, и мы вышли наружу.
Перед нами стоял товарный вагон.
Дверь хрипло распахнулись.
"Херайн!!" - сказали нам, и мы вошли в тесную клетку. Нас обдало нежилым воздухом. Я подумал: "Что для нацистов какие-то восемь австрийских евреев, когда речь идёт об истреблении целого народа?"
Журналисту велели остаться в фургоне.
- Прощай! - сказал я ему.
- Прощай! - отозвался он. Его нос всё ещё кровоточил.
От охранников концентрационного лагеря Биркенау мы узнали, что журналист был сербским коммунистом, и его просто расстреляли.
Во время одного из утренних построений староста барака подошёл ко мне и спросил:
- Кто такой ты, знаешь?
Мне было известно, что у меня диплом доктора философии.
Глаза старосты налились кровью.
- Ошибаешься, - ласково заметил он. - Еврей – это ничто, а здесь ты просто ничто с дипломом.
Георг Колман, ни к кому не обращаясь, пробормотал:
- Любопытно, из какого материала сделан этот тип?
Цибильски набрал в лёгкие воздух.
- Могу сказать!
- Правда?
- Сказать?
Георг поморщился.
- Не надо.
Я понял, что отныне мы ничто, nihil, что придётся дышать воздухом, который пахнет смертью.
Биркенау…
В бараке стоял сизый угрюмый свет, было холодно и сыро. Пространство оказалось жёстким, время – загадочным. Кое-какое тепло для тела давали нам рваные, где-то случайно подобранные лоскуты материи – мы их пристраивали то к плечам, то между лопаток. Мы себе сами…Мы сами себе…
Голодно. Голодно-голодно.
Холодно. Холодно-холодно.
Жизнь при отсутствии жизни.
Разумеется, мы всегда знали, что полного для всех равенства, полной для всех справедливости жизнь не предполагает, ибо люди от природы друг от друга разнятся: одни – трудолюбивы, другие – ленивы, одни – правдивы, другие – лживы, кто-то – активен, кто-то – апатичен… Одним словом, никто из нас не
*Кн. Екклесиаста, гл.4:1
мечтал прожить в обществе идеальном, однако никто не ожидал, что может наступить такое время, когда неописуемая дикость может взять верх над притягательностью жизни, принять такие уродливые формы. Мы очень быстро пришли к выводу, что Создатель, дав каждому овощу и фрукту свою кожуру, каждому яйцу – свою скорлупу, каждой клетке – свою келью, тем не менее забыл подумать о человеке в Биркенау. Иногда, вспоминая слова Жюля Ринара о том, что смерть хороша уже тем, что освобождает от страха смерти, я был настроен просить Создателя лишить меня жизни, но губы меня не слушались, а мозг твердил: "Разве жизнь дарящий станет её забирать?.."
Загадочное, прочно укрепившееся безумие оказалось –
неподалёку от нас,
возле нас,
в нас.
Истощённые голодом и непосильным трудом, мы, доходяги, осознавали, что единственным для нас шансом не превратиться в животных, могла бы стать попытка хоть в какой-то мере сохранить в себе оставшиеся крохи терпения и воли. Но для попыток нужны хоть какие-то силы. При общении друг с другом мы обходились языком движения бровей, глаз, носа, и только Цибильски был не прочь выступить с какими-то язвительными репликами или целыми монологами, которые он сам называл спасительными клизмами в пользу тех, кто страдает запором непонимания. Порой, пытаясь объяснить себе, отчего люди так разительно отличаются друг от друга, я приходил к мысли, что, видимо, оттого, что произошли от разных особей обезьян.