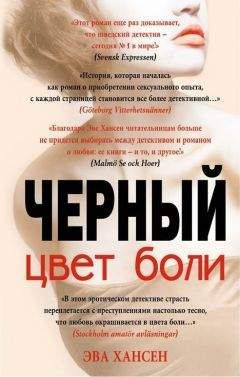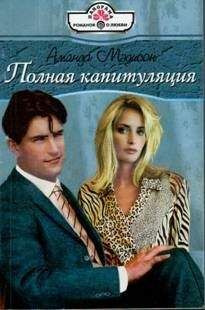Эва Хансен - Цвет боли: белый
— Не стоит, я не люблю плетки. И наручники тоже.
— Обойдемся без таких девайсов.
Он сунул визитку во внешний кармашек ее сумки, девушка, отойдя от столика, демонстративно ее вынула и столь же демонстративно опустила в корзину для мусора. Доктор только пожал плечами, весь его вид говорил, что столь закомплексованная особа его больше не интересует.
Фрида позвонила матери, чтобы не беспокоилась, и отправилась в Упсалу к бабушке, где она точно знала, вопросов задавать не будут. Совсем немного, хотя бы несколько дней, чтобы переварить, осмыслить произошедшее, а потом она решит, как быть дальше, где работать, чем вообще заниматься. Возвращаться не только в управление, но и вообще в полицию не хотелось, Фрида прекрасно понимала, что недобрые сплетни не искоренить, где бы она ни служила, слух о предательстве найдет все равно. Не будешь же каждому объяснять, что это ошибка, страшная, роковая для нее, чужая ошибка, причем тех, кому она больше всего доверяла. Причем, чем яростней будешь это доказывать, тем больше будут верить, что навет справедлив.
Когда‑то она пришла в полицию, чтобы отомстить за гибель отца, но вот Ловиса, женщина с ангельскими голубыми глазами, выстрелившая в Свена Линнерхеда в упор, лежала на кровати, умирая, и Фрида поняла, что даже мстить ей не может. Напротив, выполнила последнюю просьбу умирающей и при этом пострадала. Получалось, что Ловиса погубила не только отца, но и дочь?
— Нет, я выкарабкаюсь, найду свое место в жизни, я еще буду ловить преступников.
Бабушка и впрямь ничего не спросила, кроме того, когда же, наконец, внучка выйдет замуж. Началось привычное перечисление подруг, у которых семьи и дети.
— Ну хорошо, можешь не заводить себе мужа, но ребенка‑то заведи!
— Бабушка, дети не канарейки, их не заводят, их рожают и воспитывают. Всю жизнь, между прочим.
— Ты мне об этом рассказываешь? Вот когда еще был жив твой дед…
Дальше следовал рассказ о том, как они с мужем родили и воспитали восьмерых детей. Фрида помнила из того рассказа каждое слово, обычно она развлекалась тем, что сравнивала порядок этих слов в новом варианте или отслеживала появление новых, вернее, замену одних на другие. Но сейчас просто отключила слух и согласно кивала, хорошо помня и то, где следует соглашаться, а где протестовать. Слова не проникали в мозг, но окутывали плотным облаком…
Там же в Упсале на глаза попалась газетная заметка об открытии женского агентства «Леди».
Может, пойти в частное агентство? Правда, «Леди» занималось розыском не преступников, а неверных мужей, и иногда просто организовывая эту самую измену. Нет, это не для Фриды. Однако жить чем‑то нужно, она не Ларс Юханссон, у которого по всему городу разбросаны неиспользуемые квартиры.
Тяни не тяни, а решать этот вопрос придется. Фрида смотрела на газетную страницу и размышляла о том, что ничего другого, кроме как искать преступников она не умеет. Нет, еще пироги печь…
Вангер пришел к Бергману с сообщением, что подозреваемый, а скорее всего и виновный в убийстве Эммы Грюттен есть. Они с Мартином и Агнесс перевернули гору материала, Агнесс прошлась с лентой для снятия отпечатков не только по квартире, но и по двери снаружи. Пересмотрены часы видеозаписей камер с перекрестков и входов в госпитали, опрошены десятки свидетелей.
По убийству Эммы Грюттен результаты есть. Убийство Маргит по‑прежнему оставалось загадкой. У Вангера было подозрение, что это сделал кто‑то из подруг миллионера — Линн Линдберг или эта американка — Джонсон, кажется. Подозрения возникли, когда он увидел их входящими в госпиталь в тот же день, когда убили Стринберг.
Но охранник категорически отрицал, что хотя бы одна из подруг побывала в палате. К тому же, как выяснилось, после их ухода к Маргит входила медсестра, та была еще жива. Нет, ее убили после ухода подруг. Автоматика зафиксировала время отключения, а камеры наблюдения — выход подруг из госпиталя действительно на двадцать минут раньше.
Арестованная Урсула молчала как рыба, она словно впала в ступор, отказавшись вообще общаться с кем‑либо. Не принимала еду и даже не пила. Обеспокоенные возможностью обезвоживания, медики были вынуждены поддерживать ее силы принудительно.
И вдруг…
Что‑то заставило Вангера подробно расспросить, как выглядела инспектор Волер. Страж порядка рассказал…
Вангер даже застонал, ну почему, услышав фамилию Волер и увидев часы Фриды, он больше ни о чем не стал спрашивать? Невольно хотел скрыть, старался, чтобы все в госпитале забыли. И это вместо того, чтобы все прояснить до конца.
— Какой же ты следователь, если даже это распутать не смог?!
Но самобичевание теперь было бесполезно, Фрида больше не принесет ему кофе из автомата, она не простит страшного подозрения, недоверия. Это не обида, это нечто большее, обида рано или поздно пройдет, но Фрида не вернется. И в его жизнь тоже — это Даг понимал отчетливо.
Бергман заглянул в бумаги, принесенные Вангером, удивленно приподнял бровь:
— Ты уверен? Юханссон?
— Да, он.
— Хорошо, я получу разрешение на обыск. Обвинения косвенные, потому большего не обещаю.
— Да не косвенные они, нужно только взять его отпечатки.
— Боюсь, адвокаты найдут лазейку, чтобы его вытащить.
Подписывая бумагу, Бергман вдруг тихо произнес:
— Она уехала. Я был там.
— Я знаю. Видел твою машину у ее дома… — Вангер принял бумаги, не глядя на Микаэля. Они теперь избегали смотреть в глаза друг другу.
— Думаешь, вернется?
— В полицию нет, — вздохнул Даг. — Закончим дело, я здесь не останусь.
— Хорошо.
Хорошего не было ничего, но надо же что‑то ответить…
Тени на солнечной стороне
— Линн, не хочешь съездить ко мне в офис?
Я знала, что у Ларса есть офис, но где он и чем вообще Ларс занимается — тайна за семью печатями. О, меня допускают в святая святых?
Или это приз за хорошее поведение во время потрясающего секса?
Таковой только что случился у нас, конечно в комнате боли. Никакой боли там больше нет, зато есть одно сплошное удовольствие.
На сей раз секс был в стиле Бритт — чумовой, то есть подобный смерчу, цунами, безо всяких предварительных ласк. Подруга считает, что только такой и должен быть, если люди любят, все остальное лишь жалкое подобие.
Что с нами обоими случилось, не знаю, но мы едва дотерпели до прихожей. И, стоило захлопнуться двери в квартиру, буквально впились друг в дружку, словно не виделись тысячу лет.
Его и моя рубашки остались валяться в прихожей, джинсы где‑то в гостиной, до кожаного монстра в комнате боли мы добрались уже без ничего, а уж что творилось на нем… Я уже даже привыкла быть сверху, почти перестала бояться демонстрировать то, что в действительности чувствую, показать ему свою страсть, свое желание.