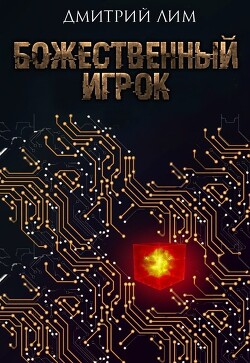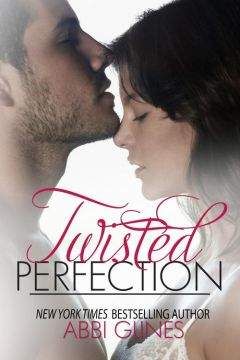Одного поля ягоды (ЛП) - "babylonsheep"
Возмущение Тома усилилось, когда он заметил на полке над столом все магловские книги, которые он держал в шкафу в приюте Вула: «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»{?}[Роман М. Твена], «Тактика химической войны в Ипре», «1812: La Campagne de Russie»{?}[(фр.) «1812: Русская кампания»], «Основы политической философии», «Сражения Второй англо-бурской войны».
Мэри Риддл была внутри его комнаты в приюте Вула.
Больше не его комнаты — безусловно, они уже переписали эту комнату на другого сироту, когда вынесли его вещи, — но она была его всё время, пока он в ней жил, его, когда у него было очень мало того, что он мог бы назвать принадлежащим безраздельно ему. Она видела её: скрипучую кровать, грязное стекло с облупившейся краской, коллекцию выцветших форм с заштопанными локтями и слишком короткими краями. Вызвало ли у неё это омерзение? Проявления нищеты, в которой прошла вся его жизнь до поступления в Хогвартс. Сам он испытывал отвращение при одной мысли об этом — о своём убогом, жалком существовании в руках миссис Коул, которая называла его подкидышем, хотя на самом деле он был не лучше самого обычного попрошайки…
И тогда на самой нижней полке он заметил засаленную обувную коробку с потрёпанными углами и отклеивающейся бумажной этикеткой на крышке.
— Прошу прощения, это может подождать другого дня? — спросил Том, прерывая горничную посреди её речи об особых требованиях к питанию, которые необходимо передать повару. — Я был в поездах весь день и несколько утомился. Поскольку уже больше десяти, Вы, должно быть, тоже устали — думаю, Вам действительно стоит отдохнуть, а не заниматься мной. Я бы не хотел воспользоваться Вашей добротой, не когда мы только познакомились.
Он одарил её искренней улыбкой, опустив веки и смягчив линию бровей, чтобы изобразить усталость, и этого было достаточно.
Горничная заикалась о чём-то несущественном, но Том не обратил на это внимания: он был рад, что она от него отстала и ушла в какой-нибудь чулан или пыльную кладовку, которые Риддлы использовали для хранения слуг, когда те не были заняты.
Он закрыл дверь с удовлетворительным щелчком замка… И бросился к коробке с обувью.
Под грудой всякой всячины сиротского хлама: йо-йо, волчка, горсти замызганных полупенсов, юбилейной монеты, которую школьникам по всей Великобритании раздали в честь коронации Георга VI, разбросанных частей перьевых ручек — была толстая стопка писем, которые он собрал за первые годы их обоюдного соглашения с Гермионой Грейнджер.
Открывая конверты, он заметил, что письма были там, внутри и на месте. Нетронутые. Всё ещё разложенные по дате, бумага до сих пор хранила лёгкий аромат, строки её почерка были не такими ровными и выверенными, как она писала сейчас, но они были узнаваемо её. Адрес на каждом конверте был устаревшим, но её голос: очаровательно заблуждающиеся мнения Гермионы, её бредовые аргументы, её нелепые видения социального прогресса — они были такими же знакомыми, такими же идеальными, какими он их помнил.
Он перечитывал их, лёжа в своей новой кровати, и когда он дошёл до середины, он почувствовал себя достаточно довольным, чтобы лечь спать посреди всей этой незнакомой роскоши.
Эта неуверенная иллюзия покоя продержалась до завтрака следующего утра, после чего разбилась вдребезги, и рождественские каникулы, которые, как думал Том, не могут стать ещё хуже, стали ещё хуже.
Этим утром Том впервые встретил своего отца.
Он не считал, что Риддлы это запланировали. Они были так же удивлены и расстроены, как и он, и какая-то его внутренняя часть наслаждалась злорадством по поводу того, что их заставили проглотить их собственное лекарство, причём в столовой их собственного дома, не меньше. Они должны были осознавать, что семейное воссоединение было неминуемым, но, возможно, Мэри и Томас Риддл хотели, чтобы было официальное знакомство, соответствующее стандартам, которые они установили в своей семье. Насколько это было возможно, учитывая нынешнее состояние Британии как военной экономики, а также крах стандартов, связанных с обстоятельствами рождения Тома.
В то утро они с Гермионой спустились, чтобы встретить сервировку обеденного стола: столовое серебро, хрустящие салфетки и яйцо «в мешочек» в подставке у каждой тарелки. Во главе стола сидел Томас Риддл в твидовом норфолкском пиджаке{?}[Фасон пиджака, изначально созданный для активного времяпрепровождения: игры в гольф, охоты, верховой езды. Отличается удобством, достаточно свободным кроем, водоотталкивающим твидом и ремнём. Часто на нём большие карманы с клапанами и замшевые вставки на локтях.], надетом поверх накрахмаленной рубашки в клетку «Таттерсолл»{?}[Мелкая клетка, составленная из линий двух цветов, часто пунктирных] и шёлкового галстука{?}[Возможный ансамбль Томаса Риддла: https://mytweed.ru/wp-content/uploads/2021/12/norfolkskij-pidzhak1.jpg]. Он просматривал утренний выпуск «Йоркшир пост», а горничная, пришедшая накануне вечером, обошла его по левому локтю и положила ему на тарелку яичницу-болтунью с украшением из шнитт-лука.
На Мэри Риддл был жакет из габардина и подходящая юбка, а пара жемчужин размером с ноготь качалась на мочках её ушей. Со своего места она наставляла горничную о том, как подавать горячие блюда из жаровень, стоявших на серванте. По количеству тарелок было видно, что Риддлы не отказались от привычных удобств в связи с введением нормирования. Молоко, сливочное масло, сыр, яйца, ветчина — всё, ради чего лондонские домохозяйки копили продовольственные карточки и стояли в очередях у зеленщиков, было выставлено на всеобщее обозрение за столом для завтрака.
«Бытовая» было самым подходящим словом для описания такой обстановки.
Это было настолько нормально, что Том с трудом мог примириться с мыслью о том, что это и есть его жизнь.
Его впечатления усилились, когда Гермиона похвалила еду миссис Риддл, после чего миссис Риддл стала превозносить мастерство своей поварихи: ею была бывшая кухонная служанка, которая сопровождала миссис Риддл в Йоркшир после её свадьбы с мистером Риддлом несколько десятилетий назад, в те времена, когда «получение в наследство» слуг было обычным свадебным подарком. Бессмысленный разговор прервал мужчина в дверях столовой, чьи тяжёлые шаги и громкий голос заглушили неумелые попытки миссис Риддл сохранить самообладание.
— Маменька, я возьму Алмаза до ручья и обратно, — сказал мужчина, направляясь прямо к подставке для тостов на серванте, не поприветствовав никого за столом. — Ясные дни слишком редкие в это время года, и дражайшая глина уже несколько недель не испытывала себя на прочность. Не ждите меня к обеду — я пообедаю в деревне.
Он был одет для конной прогулки во фрак, бриджи для верховой езды и начищенные сапоги, хлыст и шляпа были зажаты под мышкой. Кто-то мог бы восхититься его щегольской фигурой в хорошо скроенном костюме, но внимание Тома привлекло лицо мужчины, расположение знакомых черт, которые так напоминали его собственные, что были почти идентичны.
Мужчина был на несколько дюймов выше Тома, более крепко сложен, с более широкими плечами и более твёрдой формой подбородка, на котором была крошечная ямочка, в то время как подбородок Тома был гладким. Его кожа приобрела румяный оттенок от активного образа жизни на свежем воздухе, в отличие от фарфорово-бледного цвета лица Тома. Но между ними двумя было так много общего, гораздо больше, чем между ним и Томасом Риддлом: густые тёмные волосы без седины, элегантные пропорции щёк, бровей и челюсти. Но больше всего Тома беспокоил голос мужчины. У него был другой акцент — безупречный стандарт общественной школы, лишённый каких-либо следов лондонского происхождения Тома, — но тембр, диапазон и характер были точно такими же, как у самого Тома. Он узнал его досконально: сотни раз он слушал свой собственный голос в органах чувств животных, в чьи умы он проникал.
Много лет назад он сознательно решил ненавидеть миссис Хелен Грейнджер, когда в первый раз увидел её в окне своей спальни в приюте Вула, её меховое пальто и автомобиль были самыми дорогими вещами, которые он видел, чтобы кто-то владел. Сейчас, без единого сознательного намерения с его стороны, мгновенная гадливость образовалась в нём по отношению к этому мужчине — этот избалованный отпрыск-переросток, который испортил жизни людей вокруг него, — который был никем иным, как его собственным отцом во плоти.