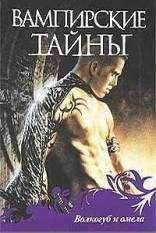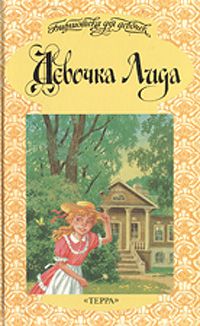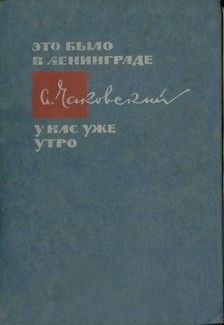Наш двор (сборник) - Бобылёва Дарья
Так наш двор осиротел. Все ходили как в воду опущенные, даже малыши копошились в песочнице очень тихо, хотя никто не запрещал им шуметь. Ни о каких новых митингах против стройки уже и речи не шло. Осторожные взрослые оглядывались на каждую незнакомую машину и отбирали у мальчишек петарды, чтобы не вздрагивать от неожиданных хлопков. Здание банка росло рекордными темпами, Владимир Борисович, как видно, очень уж спешил поскорее его открыть. Земля продолжала гудеть и стонать по ночам, но уже как-то тихо и безнадежно, что ли, будто тот или те, кто издавал этот шум, смирились со своей судьбой. Старый кот инженера Рема Наумовича, прислушиваясь к ночным звукам, топорщил шерсть и утробно рычал.
— Мы люди робкие, Барсик, — отвечал ему Рем Наумович. Он всех своих котов называл Барсиками. — Мы люди интеллигентные. Куда нам против них.
И только сухонькая Дора Михайловна из дома с мозаикой все бодрилась. Бегала на почту, выспрашивала там что-то, залезая в окошко чуть ли не по пояс, потом возвращалась, покупала пирожки или тортик и спешила в дом у реки. Там, в пропахшей старостью и шариками от моли квартире, ее с нетерпением ждали хворающие подружки Надежда и Раиса. Раиса уже не вставала, а Надежда всовывала ноги в разношенные тапки, семенила на кухню, заваривала чай и хихикала:
— Буду умирать последней…
Дора Михайловна вываливала на коммунальных старушек все последние новости, угощалась чаем, а потом, помолчав немного, начинала сетовать на то, как долго нынче идут письма — пока, мол, ответа дождешься, сто лет пройдет. Надежда с Раисой переглядывались.
— А вы б по компьютеру попробовали написать, — посоветовала как-то Надежда. — Ну, как молодежь сейчас делает.
— По чему-у? — вытаращила глаза Дора Михайловна. — Да разве ж я в них разбираюсь!
— Вот и мы нет… — вздохнули старушки и посмотрели в окно, за которым рабочие монтировали рекламный щит с какими-то иностранными словами.
— Кончилось наше время, — прошелестела Раиса.
Банк открылся и успел проработать пять дней. В него завезли оборудование, запустили персонал — всех этих мальчиков в плечистых костюмах, офисных самочек на звонких каблуках, охранников с круглыми бритыми головами. Резкий белый свет из окон озарял по вечерам заболоченные берега монастырского пруда, и тени испуганно шарахались от него. Говорили, что в первый же день одна любопытная сотрудница в обеденный перерыв пошла исследовать сад вокруг пустующего особняка, в котором когда-то был не то интернат, не то школа — и бесследно исчезла. Говорили, что некоторые видели, как в темноте над прудом пляшут синеватые огоньки, а работники, сидящие в банке «на телефоне», жаловались на странные звонки: когда поднимаешь трубку, слышно только тихое потрескивание, ни голоса, ни гудков.
Еще говорили, что в служебной корреспонденции в ту первую и последнюю неделю работы банка попадались старые черно-белые фотографии, с которых с надменной печалью глядели никому не известные люди. Не было ни конвертов, ни каких-то сопроводительных записок, по которым бы можно было понять, кто и зачем это прислал.
А один охранник внезапно впал в буйство, начал рыдать и прострелил себе ногу, чтобы, как он сам объяснил уже в больнице, больше не выходить на работу.
На закате пятого дня с поезда на Курском вокзале сошли две девушки в слишком легкомысленной для московской осени одежде — цветные платья, вязаные накидки, непокрытые головы. Одна была коротко подстрижена, и белокурые волосы обрамляли ее лицо модными «перьями». У другой по спине змеилась тяжелая черная коса. Девушки держали друг друга под локоток и поочередно, меняя руки, тащили одну на двоих сумку. Они с легким удивлением оглядывались по сторонам и шарахались от шумных носильщиков и таксистов. Дошли в толпе до входа в метро и там застряли вместе с прочими иногородними, мучительно пытаясь понять, как надо платить за проезд.
В вагоне подземного поезда остальные пассажиры косились на эту парочку, и дело было не только в легких, нездешних платьях и возмутительном на фоне городской осенней бледности загаре. Лицо темноволосой девушки было до самых глаз укутано в синий платок с узором «турецкий огурец». Тогда закрытые лица нам были в новинку, женщины в парандже встречались редко, маски в метро тоже не носили, и соседи не могли взять в толк, что с ней такое — лицо изуродовано, или новая мода такая, или религия не разрешает открыться. Особенно внимательно парочку разглядывал сидевший напротив молодой бородатый мужчина — щурил глаза, покачивал головой и не отводил глаз, встречаясь с ними взглядом. Девушка в платке сначала старалась не обращать на него внимания, а потом уставилась исподлобья, тоже прищурилась, и ее черные глаза стали горячими и злыми.
— Розка, Розка, не надо! — прильнула к ее уху светловолосая. — Не надо, не обращай внимания, он просто так, не смотри…
Роза опустила глаза и медленно, потихонечку выдохнула в свой платок, обильно сбрызнутый глазными каплями на основе серебра. Они с Адой давно уже выяснили, что серебро, по счастью, обладает способностью нейтрализовать ее гибельное дыхание.
Противный бородач все равно закашлялся и долго харкал в платок, роняя слюни на бороду, а еще через остановку поспешно вышел из вагона. Ада покрепче прижала к себе острый локоток сестры. Роза взглянула на нее, кивнула, что, мол, все в порядке, и от греха подальше закрыла глаза.
Зайдя в наш двор, они обе чуть не расплакались от той перехватывающей горло ностальгической боли, из-за страха перед которой многие чувствительные натуры никогда не посещают места своего детства. Аду ноги сами понесли к дому с мозаикой, к третьему подъезду. Она с надеждой обернулась, и Роза, хлюпнув носом под платком, согласно кивнула, но спустя мгновение свела на нет всю молчаливую торжественность момента глухим возгласом:
— Сумку! Адка, сумку забыла!
Ада поспешно вернулась и взяла сумку, в которой что-то булькнуло.
— Маме скажи, пусть чачу перельет куда-нибудь, — посоветовала Роза. — И суджук ей сразу отдай. И камни с чаем…
Ада скрылась в третьем подъезде, а Роза направилась к угловому дому. Провела рукой по домофону, который установили после смерти Досифеи, и дверь открылась. Постояла у почтовых ящиков — по ее лицу, скрытому под платком с «турецкими огурцами», ничего нельзя было понять. Потом поднялась на лифте на седьмой этаж.
Ремонт в бывшей квартире гадалок шел полным ходом, входная дверь была распахнута настежь, паркет в прихожей застелили газетами. Ремонтники сновали туда-сюда, выносили строительный мусор, белили потолки и шпатлевали стены. Пахло мокрой штукатуркой, чужие голоса гулко метались по оголенному жилищу. На лестничной клетке валялись обломки деревянной оконной рамы. Роза отломила от нее щепочку и тихонько ушла обратно во двор.
В палисаднике, где когда-то возделывали свой огород Агафья Трифоновна, Роза опустилась на колени, воткнула в землю щепочку, которой касались руки гадалок из углового дома, накрыла ее сверху своей ладонью и без голоса, одной той силой, которую давал ей царский подарок, обратилась к тварям земляным и домовым, водяным и воздушным. Далеко раскатывался по песчаной дворовой почве, звенел в воздухе и тревожил темную водяную рябь ее зов. Вот, говорила Роза, были люди и были вы, и был наш двор и в нем семья особой крови, которая знала обо всех, хранила равновесие и хранила их от вас, а вас от них. Но пришли чужие, выгнали, истребили семью особой крови и насели на людей, а в вас загнали сваи, залили вас бетоном, срубили ваши деревья, разорили ваши донные гнезда. Слабые люди, которые даже вас боятся как огня — и те объединились и пытались сопротивляться, пока их совсем не запугали. А вы молчали и бежали поодиночке, гудели по ночам и плакали, съели какую-то офисную девицу и пускали огоньки — это все, что вы можете? Если вы не откликнетесь сейчас — не будет здесь больше ни нашего двора, ни людей, с которыми вы привыкли жить бок о бок. Чужие должны ответить за особую кровь, иначе они решат, что им все можно, и убьют этот город, как убили множество других до него…