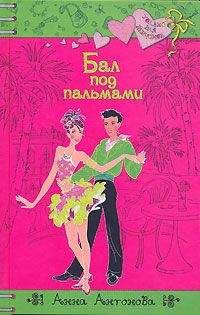Анна Старобинец - Резкое похолодание
И главное — он стоит ко мне спиной. А значит, я не увижу выражения его лица, и, значит, мне не придется смотреть ему в глаза, когда я наконец скажу: «Да. Отказываюсь».
Я тщательно прожевываю зеленую фасоль, проглатываю ее. Я открываю рот, все еще ничего не говоря, оттягивая момент счастья, смакуя про себя это «да», и это «от», и это «ка-зы-ва-юсь»…
Он возвращается к столу и садится напротив меня. Пристально смотрит. Ждет.
Я бодро говорю:
— Нет.
— Что нет?
— Нет, не отказываюсь. Просто мне не нравятся беговые лыжи. На беговых лыжах я кататься не буду. Лучше что-нибудь другое.
Правая щека отзывается на каждый произносимый мною звук приятной теплой щекоткой. Я машинально прикасаюсь к коже. Размораживается…
— Прекрати себя без конца теребить, — раздраженно говорит отец.
— У меня щеки обморожены.
— Да ничего у тебя не обморожено! По крайней мере снаружи. Все в порядке, совершенно нормальные щеки. Красные и толстые… И чем же ты хочешь заняться?
Отправляю в рот еще одну порцию фасоли, жую.
— М-му, ты мог-гы…
— Прожуй, потом говори!
Быстро проглатываю почти половину, остальное приминаю языком и отодвигаю за щеку.
— Ты мог бы взять меня ма уору.
— Куда?!
— На гору.
— Куда?…
— На гору.
…В нашем городке есть настоящая гора. Очень высокая. С восточной стороны она более пологая, лакированная тускло-желтым заезженным снегом. С западной — крутая, с почти отвесным склоном, с кособокими деревьями, с черными камнями и клочьями рыжего бурьяна, выбивающимися из-под белоснежных сугробов.
Ни в одном другом подмосковном городе нет и не может быть горы. А у нас есть. Откуда она взялась, я не знаю. Говорят, это просто какое-то тектоническое чудо…
Каждые выходные папа обязательно ходит туда.
На пологой стороне — горнолыжный спуск с красными островками накренившихся флажков. Справа — ручной подъемник, слева — клуб самоубийц, съезжающих почти с самой вершины на беговых лыжах или санках. По крайней мере раз в неделю кто-нибудь обязательно сворачивает себе там шею.
У подножия горы стоит бревенчатый сарай-раздевалка: там мой папа и его приятели замуровывают свои ноги в горнолыжные ботинки, пьют горячий чай с ромом (все обязательно берут с собой термосы), отдыхают, болтают. Многие приводят с собой на гору детей, и те копошатся у подножия — катаются на санках или елозят на коротких пластиковых лыжах… а потом вместе с родителями идут пить чай в бревенчатую раздевалку.
Папа не брал меня с собой никогда.
Пару раз я приходила на гору сама — но он об этом не знал. Я специально не попадалась ему на глаза — а узнать меня там никто не мог…
Один раз я подглядывала за ним через щелку в бревенчатой стене. Он сидел ко мне спиной, чуть наклонившись вперед — застегивал клипсы на ботинках — и одновременно что-то рассказывал двоим молодым мужчинам в синих спортивных костюмах. Слов было не разобрать. Когда он закончил, синие принялись жизнерадостно хохотать. Отцовского лица я не видела, но было понятно, что он тоже смеется: плечи его мелко подрагивали. Ему было весело. Я ушла.
В другой раз я смотрела, как он катается. Он доехал на подъемнике до самого верха. Лениво отцепил бугель от троса. Постоял немного, спиной к склону, — маленькая темная фигурка на самой вершине. Кажется, он смотрел на закат: небо над горой было в тот момент какое-то мультяшное, нежно-крапчатое, по-детски исчерканное розоватыми полосками и точечками… Потом он развернулся, расправил плечи, слегка согнул колени — и заскользил вниз ритмичным размашистым зигзагом, ловко объезжая бугорки и по пути покалывая их палками — то левой, то правой…
— Зачем тебе на гору? — он смотрит на меня совершенно ошарашенно.
— Ну… ты научишь меня кататься на горных лыжах.
— Тебя? — Сдержанное презрение.
— Меня.
— Ты действительно хочешь? — Удивление.
Просто удивление.
…Не хочу. Нет, я не хочу, я не хочу. Ничего этого не хочу. Но если уж я не могу сказать «нет» — пусть лучше он мучает меня там, на горе.
По крайней мере это моя гора.
— Хочу.
— А ты понимаешь, что там я не смогу таскать тебя на тросе?
…На той стороне горы, где никто не катается на лыжах, на той стороне горы, где растет рыжий бурьян, на той стороне горы, где корни деревьев переплетаются под снегом, — на той стороне горы есть нора…
— Понимаю.
— Хорошо. Завтра я возьму тебя с собой.
…Это наша нора. Моя — и моей волшебницы. Кроме нас, о норе никто не знает.
Я прихожу туда примерно раз в неделю. Иногда чаще. Я приношу моей волшебнице письма и просовываю их в нору. Там всегда холодно; даже летом, даже в самую сильную жару внутренности норы покрыты инеем. Я просовываю письмо, и моя рука леденеет…
Моя волшебница забирает все письма.
— Только не вздумай меня опозорить! Никаких соплей!
…Моя волшебница живет в горе. Она живет там давно, много лет, много веков — с самого начала. С тех пор, как появилась гора.
Я никогда ее не видела и не знаю, как она выглядит. Она почему-то не хочет мне показываться, хотя я столько раз ее об этом просила!.. Но она отказывается. Она просто забирает письма, которые я приношу. Забирает к себе, внутрь горы…
— Никаких «не поеду — не могу»! Это тебе не лес. Там будут горнолыжники!
…В письмах я пишу ей про мои желания. А волшебница их потом исполняет. Не всегда, конечно… Но все же. Все же, как правило, исполняет. Особенно если письмо оформлено правильно…
— Понимаешь? Горнолыжники!
…Правильно это нужно делать так. В центре печатными буквами написать свое желание. Обвести его в кружок. По краям разрисовать страницу маленькими снежинками. Это все делается синей шариковой ручкой…
— Понимаешь? Горнолыжники!
…А потом — черной ручкой — нужно поверх всего нарисовать еще одну большую снежинку. А на обратной стороне написать три раза «Я так хочу». И подписаться — чтобы волшебница не сомневалась, что письмо именно от меня, а не от каких-нибудь посторонних.
— Понимаю. Горнолыжники.
Отец собирает со стола грязную посуду и кладет в раковину. Тарелку с маминой нетронутой порцией накрывает сверху другой тарелкой и отправляет в холодильник.
Горнолыжники… Меня как-то настораживает это слово. Горнолыжники, горнолыжники… Я чувствую опасность. Горнолыжники, горнолыжники, горнолыжники, горнолыжники… Я душу его, медленно выжимаю его, туго обвиваю его кольцами четких, беззвучных повторов. Жду, когда оно перестанет дышать и застынет, очистится от всякого смысла и умрет.