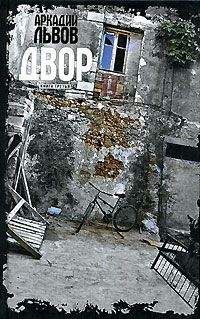Альфина - «Пёсий двор», собачий холод. Том III (СИ)
Нет, болезнь — лучшая метафора; на всех нас нашло помрачение, чары какие-то, но вот они выветрились. Остался только ужас.
Но Скопцов не чувствовал вины. Напротив, он ощущал некоторое раздражение, даже злость, как если бы целый день ходил непристойно расстёгнутым или измаранным, а никто не потрудился ему об этом сообщить, посмеиваясь лишь у него за спиной. Но заслуживает ли больной издёвок? Ведь есть в Революционном Комитете люди сильнее и стойче — почему никто из них не одёрнул, не ткнул правдой в глаза?
Ах, нет, Скопцов припоминал: осознание пришло к нему, когда он узнал, что Твирин сжёг прощальные письма графа Метелина. И в этом своём деянии он — мерзавец Твирин, безумец Твирин! — был прав.
Если граница человечности отказывается пролечь сама, её необходимо провести.
Весь день Скопцов ходил в странноватой ажитации, но к вечеру разобрался, что необходимо сделать. Мёртвых не воскресить, а нанесённую Петербергу рану не зарастить усилием воли, но можно хотя бы поднести к ней целебное снадобье.
«Жители свободного Петерберга, мы молим вас о прощении».
Старую казарменную комнату даже не запорошило пылью: Южная часть была вотчиной Мальвина, и кто-то трудолюбиво следил за былым жильём Скопцова. Не коснулось оного и уплотнение, связанное с пленными солдатам (равно как не коснулось оно и жилья высокого командования). Разве что электричество, некогда сюда подведённое, отчего-то не горело; Скопцов не стал разбирать причин, а просто зажёг себе маленькую керосинку. Так вышло даже лучше: ночь за окном скрадывала комнату, оставляя во всём мире лишь стол с бумагой и чернильницей.
«Мы совершали ужасное».
Стол с бумагой и чернильницей располагался так, что сидеть за ним приходилось спиной ко входу. Это было специально: ни в детстве, ни теперь Скопцов вовсе не намеревался принимать здесь гостей. Поэтому, услышав шорох, он вспугнуто обернулся.
Дверь сперва приоткрылась, но обнажив чёрную щель, замерла. Постучали.
— Да-да?
Вошёл папа. Ах, ну конечно!
Выглядел Ригорий Скворцов молодецки — быть может, даже нарочито, с эдаким надрывом. Он недолюбливал Мальвина и как бы немного смущался того, что вынужден с ним работать. После эскапады Твирина всей Охране Петерберга пришлось снять с себя погоны; сделали это и генералы — один только Дикий Ригорий отказался. Шинель он как-то лихо умел накидывать себе на одно плечо. Слава лешему, хоть хлыст с собой не приволок!
Судя по шибающему в нос одеколону, генерал Скворцов был сегодня занят тем, что получалось у него даже лучше командования: очаровывал дам, причём не для того чтобы с ними загулять, а просто из любви к процессу. Если помнить про разлад с Мальвиным, это было естественно, но Скопцов всё равно сморщился.
Сморщился, а после улыбнулся. Он избегал отца, ведь в помрачении стыдно было смотреть тому в глаза. Теперь же помрачение прошло, да и имелось что генералу Скворцову сказать.
— Что, корпишь, Димка? — бодро воскликнул тот вместо приветствий, ухватывая сына своими огромными лапищами. — Корпишь… И опять с пером да бумажками, вечно с пером да бумажками! Уж ничто тебя не исправит. — Скопцов не ответил, и генерал по обычаю своему перешёл сразу к делу — обиженно и в то же время робко насупился: — Совсем ты меня, Димка, забыл.
— Да. Прости. — От отцовских объятий в Скопцове опасно хрустнули косточки, и он повёл плечами. — Так… вышло, да и я… и мне… В общем, теперь я могу тебя обрадовать.
Папа обрадовался прежде, чем сын успел объясниться; засверкал белоснежными зубами.
— Вскорости мы уедем; я имею в виду, некоторые из нас, из Революционного Комитета. Например, господин Мальвин. И я тоже. Уедем не навсегда, но… Я думаю, это означает, что к вам должно вернуться командование Охраной Петерберга. Ну, с учётом определённых частностей, о которых предстоит ещё поговорить.
— Вот как, — папа огладил бакенбарды. В скопцовской комнатушке ему было тесно, и он то прятался во тьму, то выскакивал из неё обратно.
— Да. Ты не рад? Я думал…
— Нет, я рад, я рад! Рад, уж конечно. Уедете, значит. В Столицу?
— Почему ты так решил? — Скопцов опешил и прикрыл это крайне неловко, из чего папа, конечно, сразу установил верность своей догадки.
Рассуждать об этом генерал Скворцов, однако же, не стал, а продолжил вместо того кружить по комнате, самому себе кивая.
— Я думал написать всем четверым генералам официальные письма, уведомить… Но вот сказал тебе.
— А что, и напиши, — немедленно одобрил папа, подмигнул: — И мне не забудь! Каменнопольскому будет приятно, а Стошев до такого дела и вовсе охотник. Ты знаешь, что Стошев с Йорбом так и не передали свои части в официальное подчинение Временному Расстрельному? Да, да! Мы-то с Петрон-Всеволодьевичем поскромничали, да и справили ваши ребята документы, всё чин по чину… А только Твирину документ не требуется, он всё на словах, но в деле, выходит, приказы-то по Западной части Йорбом подписаны. То есть инструкцию он вашу заверил, а вот то, что потом было… А Стошев и вовсе упёрся: через меня, говорит, пойдёт бухгалтерия! И ведь удержал, а! То есть приказ-то даёт Гныщевич, а подпись, если оно про солдатню, не про гражданских, подпись стошевская. Эвон как. — Он морализаторски кивнул, после чего снова надулся: — Я б и сам так хотел, да твой Мальвин — мужик твёрдый, сразу эдак себя поставил…
— Ты на него не обижайся, — ласково попросил Скопцов, — он это не со зла. Просто любит порядок. И, видишь, у него по порядку: он готов без спору уйти, вернуть тебе твою часть, когда срок настал.
Папа пребывал в задумчивости. Весть о том, что Временный Расстрельный Комитет готов сдать свои позиции, явно была для него неожиданной; он, кажется, уже давно примирился с выскочками, и Скопцов не сомневался ничуть, что дело тут — в его скромной персоне. Это его больше тревожило, хотя отчасти и льстило тоже.
«Простите нас. Всё, что мы делали, творилось ради вас и вашей свободы от старого гнилого порядка, но в борьбе с ним мы и сами порой становились не лучше тех, кого стремились одолеть».
Ах, сколько всего нужно было сказать! О том, что помрачение развеялось, и потому гадкое теперь позади; о том, что Революционный комитет не соврал — жить стало лучше, а будет ещё лучше, лучше для всех; о том, что Скопцов избегал папы, поскольку одновременно стыдился и его положения, и собственного, ведь неловко и противно было бы командовать родным отцом; о том, в конце концов, как рад он теперь не молчать.
О том, что излишнему одеколону давно бы пора смениться на добрую и заботливую женщину, и о том, что в обновлённом мире ничто этому не воспрепятствует.
— Димка, скажи, — с хитрецой поинтересовался генерал, — а как там твоя избранница?
Сердце Скопцова немедленно съёжилось, но папа не заметил и продолжал:
— Слышал я, как ты обошёлся с Еглаюшкой. Не забыл племяшку! Думаешь, небось, я забыл? Не-е-ет, я тоже перед осадой кинулся проверять интернат, да ты меня опередил. И, говорят, не просто Еглаюшку вывел, а сразу — эк! Сразу к девице своей! — От подмигиваний у папы перекосило всё лицо.
— Говорят, значит, — еле слышно пробормотал Скопцов, воспламеняясь до кончиков ушей.
— Ты не думай, я за Ушайкиным тоже присмотрел — он нынче не в моей части, у Каменнопольского, но с этим слад лёгкий. Уж не оставил бы девочку без отца! Когда осада была, в городском патруле Ушайкин ходил, а теперь на выезде — к востоку от Петерберга беглецов из Резервной Армии ловит. Я сперва думал, — многоопытным тоном поведал папа, — его вернуть, поближе к Еглаюшке оставить, а как разобрался… Разобрался да и порешил — зачем ему сейчас в Петерберге быть? От любви к дочурке всё ж не помирает, а тебе третий человек лишний, а? То бишь четвёртый, если Еглаюшку учесть.
— Это, право, было чересчур… — совсем уж тихо пролепетал Скопцов. Папа же восторженно треснул тяжеленным кулаком по столешнице:
— Ловко ты, ловко! Я в твои годы только краснеть и умел, а ты — сразу козла за рога! Молодчина! Теперь уж вы, считай, породнились! — Он вперился в Скопцова сияющими глазами и наконец-то задал вопрос, к которому всё это время и клонил: — Ну что, скоро ль женитьба?
— Папа! — не стерпел Скопцов, отшатываясь и ощущая биение сердца где-то возле кадыка. — И вовсе ни к чему так спешить, мы уедем, а потом… И вообще, я, знаешь, я просто оставил Еглаю под присмотром добропорядочной… рачительной… это вовсе ничего не…
— Ну прости, прости, — генерал, смягчившись лицом, протянул ладонь будто потрепать Скопцова по голове, но передумал и лишь хлопнул по плечу. — Прости старику напор. Но и лукавить с отцом не надо: добропорядочная, рачительная — да и любимая. Уж я-то знаю.
— Откуда? — пролепетал Скопцов, но ответа ему не требовалось: он и сам знал. Пол-Людского знало.
Сегодня днём он ходил в скобяную лавку проведать Еглаю и убедиться в том, что попечительница её согласна и далее таковой оставаться, а также заверить, что отец девочки жив и здоров. И, быть может… быть может, ещё зачем-то ходил, да только любые его желания рассыпались, когда Скопцов увидел, какими взглядами провожали его нарумяненные и голосистые девки Людского.