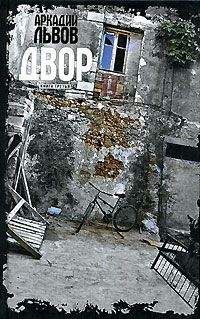Альфина - «Пёсий двор», собачий холод. Том III (СИ)
Хикеракли молчал и по-прежнему весь вглядывался. Долго, аж истикался гроб часов.
Разжал потом хватку без сил.
— Мы с тобой разные дураки, Тимка.
Твирин отвернулся, дошагал до окна, безупречно отглаженную дамастовую штору чуть спихнул вбок, чтоб увидеть хоть что-то. Хоть чем-то оказался пёс, которого выпустили поскакать привольно этажом ниже. Пёс был ногастый и длинноухий, тоже дурак.
— Я знаю, что разные. Знаю, — папироса догорела почти нетронутая. — Я от тебя таил, конечно, позорную историю своей первой встречи с графом Набедренных? С графом, с хэром Ройшем, Золотцем и За’Бэем? Таил, как же иначе. Впрочем, не в ней соль… Просто граф тогда нёс обычный свой прекрасный вздор, а повод располагал к апологии грехов. И граф доказывал, что совершенный человек принципиально нежизнеспособен, поскольку все его бессчётные добродетели при столкновении с реальным миром, мол, только свяжут ему руки. Ну, ты представляешь, как оно могло звучать. Все смеялись и что-то возражали, я тоже возражал, пусть и не смеялся, а теперь вспоминаю нюансы и холодею. — Твирин поискал в себе простые и быстрые слова, но таковых не нашлось. — Помнишь… Хотя вряд ли, зачем бы тебе помнить. Рассказываю: когда налог на бездетность обсуждали, ты пламенным монологом разразился… Настаивал, что Городской совет не на площади, а в голове. А ты, мол, его в свою голову пускать не намерен, — воспоминания заволокли, затуманили, будто согрели даже. — У тебя же правда его в голове нет. А у всех у нас — есть, у хэра Ройша так целый Четвёртый Патриархат вместе с Европейским Союзным правительством умещается. И у меня тоже есть, как бы мне об обратном ни мечталось. Вот мы эти месяцы свои Городские советы в головах и разрушали — кто с рвением, кто с тщанием. А тебе не надо разрушать, у тебя отродясь его нет и не было. И получаешься ты среди нас — в политической если сфере — тот самый графов совершенный человек. До чего же это погано.
Твирин хотел совсем отдёрнуть штору, и тут приметил, что в дальней раме не простое стекло, а витражное ещё сохранилось. Ну да, ну да: дом-то йихинских времён, на украшения не скупились, такая уж мода, ничего удивительного.
А всё равно — как ножом по памяти.
Жизнь за витражами, леший её дери.
— То есть по-графовски мне, значится, помереть надобно? Вот уж нет, дудки. — Хикеракли, судя по скрипу, сам теперь влез в красное, очень красное кресло. — Дудку мне, к слову, твой солдатик Крапников подкинул. Я ж чего к метелинским разбирательствам задержался? Так за мной Коленвал Крапникова послал, вот мы с ним сперва и посидели. Душевный, душевнейший человек! — Твирин не видел, но знал наверняка, как он поулыбался воображаемому Крапникову. — Прав ты, Тимка. Паршиво мне — слов нет, и что с этим поделать… тоже слов нет.
— Ежели б я ещё предложить что мог, — хмыкнул Твирин. — Я же проблемы только создавать мастер, а решать не умею. Жить дальше, жить не так, как будто завтра помирать, — и того не умею. Да ни лешего я не умею! Вот стрелять, например. Ты знал? Вся Охрана Петерберга не знала. Теперь знает, я ведь в графа Метелина толком попасть не смог, его Плеть… ножом, — пёс за окном бесновался, катался в снегу. — Хикеракли, может, я и ошибся, что вытряхнул из тебя сейчас всё это, а что делать — сам не догадываюсь. Может, вернее было бы в покое тебя оставить. Только невозможно же на тебя такого смотреть! Мне вида твоего уже на метелинских разбирательствах хватило, а когда пришёл сегодня сюда… В общем, ты попробуй хоть как-нибудь. Вдруг ещё не все силы высосаны, вдруг получится не мертветь?
Усатый дворник шуганул пса, чтоб сметённое с дороги зря не ворошил, но тот только оббежал кругом и снова принялся за своё.
В соседнем переулке вкрадчиво зажглись фонари. Неужто и впрямь весна рядышком, раз темнеет так поздно?
— Ты б шинель снял, умник. Упаришься.
Твирин аж дёрнулся.
И правда: стоит в шинели, морали читает человеку, который с житейской точки зрения всяко поумнее его самого будет. И как Хикеракли в голос не расхохотался?
— Чего уж теперь снимать, — обернулся он неловко. — Всё, поговорили, я и так тебя задержал.
Жальче всего было, что вот пойдёт он сейчас мимо шального пса, а дать-то ему на зуб и нечего. И вся грядущая весна от этого «нечего» съёживается, вывёртывается, пахнет не положенным ей предчувствием хмеля, а слякотью и пустырём.
Когда Твирин поравнялся почти с гробом часов, Хикеракли его окликнул, неожиданно тихо и неожиданно грустно:
— Не уходи.
Незачем так шутить, не надо. Тянет ведь поверить.
— Если я не уйду, тебе придётся и дальше терпеть мои детские выходки. У меня их ещё много, к несчастью.
— У тебя выходки, а у меня дуда. Тебя в хозяйском доме не обучали инструментам?
Твирин всё-таки усмехнулся очередному абсурду, всё-таки выдохнул, всё-таки сбросил шинель.
— Не слишком рьяно. Так что лучше напои меня, — кивнул он на непочатый бальзам.
Хикеракли наморщил лоб, поколебался, потом взял-таки бутылку, завозился с этикеткой и снова замер. Поднял глаза.
— Знаешь, я… Хотя нет, не знаешь. И не узнаешь. В общем, хорошо, что ты хотя бы улыбаешься.
Это было уже чересчур для тяжёлого разговора посреди руин, который тут происходил минутой назад. Что-то с треском посыпалось в голове — быть может, не Городской ещё совет, но тоже важное присутственное место, правила устанавливающее да уставы сочиняющее.
Тимофей Ивин, будь он неладен, сбежал от своей прилежной, удушающей, в конторских книгах заранее расписанной жизни в Академию, за витражи. Но витражи — ненадёжная баррикада, казармы Охраны Петерберга сдерживают осаду куда лучше.
А может быть, здесь и закралась ошибка.
Вот откуда эта уверенность, будто есть всего два пути — народным героем в казармах или прилежным мальчиком над конторскими книгами? Был ведь шанс проскользнуть между и всех обмануть. Был же?
— Хикеракли… Тебе смешон вопрос, что бы ты, мол, переиграл в прошлом, если б мог? Но всего одно — как в таких вопросах принято.
Хикеракли, в тумбе штопор нащупав и в кресло обратно возвратившись, побродил взглядом по потолку:
— А вот когда мне было одиннадцать годков, я почти-почти из Петерберга удрал — кто ж тогда знал, что они будут со своими псами блохастыми? И ведь думал, думал удирать по Межевке! Знаешь, где б я теперь был?.. — присвистнул он. — Да шучу я, Тимка. Ничего б я не трогал. Оно, конечно, много чего можно сделать лучше, да только кто знает? Глядишь, и не лучше, а хуже вышло бы.
Да бывает ли хуже, леший.
— А я про себя не в шутку, а всамделишный ответ знаю. С самого начала знал, но честность с собой нелегко даётся. Ещё вчера бы не далась.
Собственной воли испугавшись, Твирин оцепенел — вот в точности как тогда. Смешно, смешно же до неприличия: к генералу Йорбу явиться у него пороху хватило, барона Копчевига застрелить — хватило, а тут вдруг не хватило. А вроде тот же самый человек был — ещё не Твирин, Тимофей Ивин. Тимка, да.
— Не давал бы Коленвалу прозвание Коленвал? — в шутовской своей манере подмигнул Хикеракли, пробку ловким жестом извлёк и протянул бутылку Твирину.
Всего-то подойти и осталось.
— Почти. Но когда я тебе скажу, ты меня засмеёшь. Или даже выгонишь. Если б не сегодняшний конфуз с графом Метелиным, меня бы это страшило, — Твирин вдохнул. — В общем, в сентябре, в «Пёсьем дворе»… Зря я тогда убежал.
Бутылку Твирин взял, только усевшись к Хикеракли на колени.
Как в сентябре, в «Пёсьем дворе».
Прежде, чем сообразить, что творится-то, Хикеракли подхватил его поудобнее рукой. Потом таки сообразил, от души похмыкал. Твирин же, чтоб того хмыканья не видеть, щедро хлебнул бальзама. Первый, собственно, раз в жизни.
Твиров бальзам оказался пахучим, резким, колким и насквозь горьким, как схваченный тлеющим уголёк, но дальше распробовать не удалось — Хикеракли отобрал. Придвинулся и шепнул в самое ухо:
— Тимка… — ох как от бальзама полыхало горло. — Я ка-те-го-ри-чес-ки не помню, что тогда происходило.
И, улыбнувшись, полез ерошить Твирину волосы.
Глава 77. Элизабета переплела волосы
Скопцов категорически не мог понять, откуда взялось это помрачение, как объяснить себе… всё произошедшее. Но теперь с глаз его упала завеса, и без завесы не выходило дать себе ответа даже на простейший вопрос: почему ты позволил всему этому случиться?
Кровопролитию? Убийствам? Циничному переделу власти? Войне?
О, леший даже с «позволил». Скопцов не лгал себе; он вряд ли сумел бы кому бы то ни было помешать. Но почему не воспротивился хотя бы словами?
Он не знал, когда именно — быть может, этим утром, или просто в один миг, от случайного силуэта в дальнем конце улицы или от звука чьих-нибудь шагов, — завеса пала, а душа вдруг очистилась, став по-зимнему хрустальной. Скопцов чувствовал себя так, будто исцелился от тяжкой болезни или, к примеру, протрезвел.