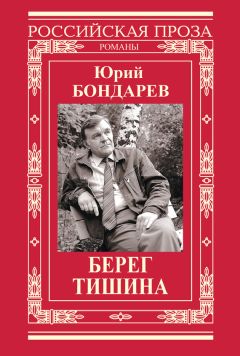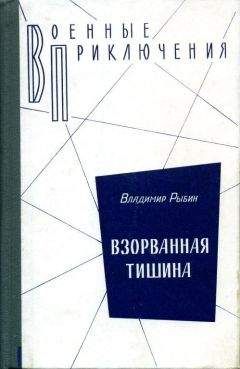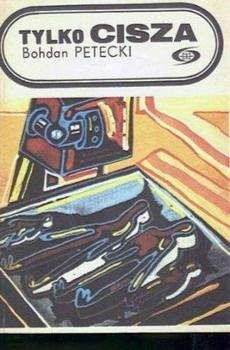Николай Ларионов - Тишина
--------------
Во дворе казарм Русско-Орловского отряда солдаты красной гвардии проходили строй.
Перед ротой в тридцать человек, заложив руки в карманы пунцовых галифе, прохаживался помощник командира Егорюк. Он был пьян, глаза его расширялись неестественно.
Опустив губы злой усмешкой, Егорюк вдруг круто остановился перед ротой.
- Кузменко, скажи-ка мне номер своей винтовки.
Красногвардеец потоптался нерешительно и вздохнул, выкатив глаза.
- Стать, как по дисциплине! - выкрикнул фальцетом Егорюк. - Ну? Не знаешь? А кто должен знать, ты, или моя тетка? Чем будешь поляка бить, в три святителя твою...
Хотел сказать еще что-то, но покачнулся, махнул рукой.
- Мне все едино... плевать. Рр-азойтись!
Шеренги разомкнулись, двинулись. Егорюк, повернувшись спиной к роте, закурил. Красногвардейцы подтягивали ремни. Почти у всех шинелишки были рваные, до колен, на ногах "мериканки", обросшие грязью, или лапти с обмотками.
Некоторые, оправившись, пошли в казармы. Кузменко, скосив глаза на командирские галифе, фыркнул тихо:
- Буду я тебе поляка бить... на! - И опустил руку к колену.
Засмеялись.
- С поляка штаны сбондим, сел на паровоз - и домой повез.
- Ха-ха!
- На хрена и воевать-то?
Егорюк побагровел.
- Кто это?.. Молчать!
Подавшись вперед, попал ногой в глинистую жижу и упал боком.
- Хм!.. Мне все едино... плевать. Рр-азойтись!
Красногвардейцы кинулись поднимать своего командира.
--------------
Вечерами пахла прелью земля. С черного неба падали крупные звезды, словно ракеты. Едва зажигали фонари, как на главные улицы выходили шибера в клетчатых кепи, пыхтя дурно-пахнувшими сигарами. На углах собирались кучки - безмолвные, безликие, разговаривали жестами, пожимали плечами и расходились в ночь, ночью рожденные, чтобы через промежуток сойтись снова и снова говорить пальцем.
В домах, где были расквартированы красногвардейцы, из растворенных окон ползли горластые песни, о покатившемся яблочке, отравившейся Марусе, и теплый ветер, подхватывая обрывки слов, нес их за город, на простор, где тишина сковала черные, пахучие поля.
Изредка, на взмыленных конях проносились серошинельные всадники, низко пригинаясь к луке, подсвистывая, щелкали плетками. И чуяли взмыленные кони и знали отупелые от загонов всадники, что неслышная отсюда поступь польско-петлюровских войск стирает последние границы, что семьдесят верст можно пройти без всякого боя в три ночи, когда пахнет прелью земля.
--------------
В столовой тепло, яркий свет. У Маврикия Назарыча Лебядкина - заведывающего экспедицией местной почты и хозяина квартиры - блестят на носу очки, а на мизинце, подобно хрустальной горошине, искрится бриллиант. Рядом с мадам Лебядкиной - всклокоченный, заспанный Егорюк. Пьют чай.
- Ах! - вздыхает мадам Лебядкина.
- Да! - подтверждают очки Маврикия Назарыча.
Егорюк звякает в стакане ложечкой, лениво покусывая сдобный сухарь, и говорит, растягивая слова:
- Тяжеленько, знаете... Воюешь нынче невидимо с кем. Раньше знал: германец - бей его в лоб! Подъем духа был.
Маврикий Назарыч, сняв очки, протирает их носовым платком.
- Поверите, господин Егорюк...
Тот морщится, поднимая ладонь над столом:
- Гражданин.
- Извините! Поверьте, что я никак не могу постичь происходящего, смысл, так сказать, событий. Заварить форменную кашу, вызвать на бой кого-о?.. Польшу... Польшу, не забудьте - страну очень культурную. А зачем, спрашивается?
Егорюк, борясь со сном, усиленно таращит глаза. Маврикий Назарыч, разглаживая бородку, продолжает, понизив голос:
- Большевики выставили лозунг "долой войну": так зачем же воевать, спрашивается, а? Вот вы гос... гражданин Егорюк, вы сами даже не знаете точно - зачем? А кто пострадает? Мирные жители городов и деревень - особенно.
- Ужасно! - подает реплику мадам Лебядкина. - Четверть фунта хлеба... Как же можно кушать, слушайте? За завтраком кусочек, за обедом кусочек и... и... все?
Брови мадам вспорхнули птичками.
- Мудрено что-то вы говорите, - качает головой Егорюк. - Что в хлебе нехватка - это факт, но, как я понимаю, за его большевики и идут. А неправда какая есть - так при Николае ее бочками выкатывали.
В раскрытые окна плывет ветер, играя кружевом занавесей. Мадам Лебядкина наливает себе чай.
- И потом эти... евреи, - закусывает губы Маврикий Назарыч. - Торгаши, в сущности, по природе. Иуда продал Христа, ныне - продают Россию за навязчивую идею и лезут, лезут. Извините, господа, дайте вздохнуть, пожалуйста, избавьте!
Мадам Лебядкина сочувственно наклоняет голову. Глаза Егорюка тускнеют.
--------------
VIII.
Директива.
Однажды утром, после ротного учения, Егорюка вызвали в штаб отряда. В комнате командира сидел политком над распластанной на столе картой. Хмуря брови, командир пытливо заглянул в глаза Егорюку.
- Пили?
Егорюк усмехнулся, держась рукой за спинку стула:
- Отчего же? Пить нужно. Зато - драться будем - кишки вон!
Политком поднял голову от карты.
- Мне донесли, что солдаты вашей роты занимаются грабежом у евреев: это... правда?
На лице Егорюка дрогнул мускул.
- Кто донес?
- Это правда, мать вашу?.. - взревел политком. - Так же будете Республику защищать, как солдаты ваши мародерствуют?
- Насчет защиты, так у меня в грудях две пули шатаются, - глухо проговорил Егорюк, - вам очков надаю... А таких жидов бить нужно, потому мутят они революцию.
Повернулся и вышел.
В ротной канцелярии у себя на столе нашел пакет с надпиской в углу конверта: "Срочно. Оперативное".
Разорвал сургучные печати и долго, внимательно, отгоняя хмель, читал:
"На основе директивы штаба войск красной гвардии юго-западного района, вверенному мне отряду предписано выступить. Во исполнение приказываю: командирам 1, 2, 3 рот, командиру гаубичной батареи в сорокавосьмичасовой срок закончить пристрелку винтовок, орудий и пулеметов, срочно затребовать провиант и дополнительное снаряжение, немедленно затребовать подвижной состав, приступив к погрузке 15 марта. Ответственность за своевременную погрузку и полный порядок возлагаю на помощника командира 2-й роты т. Егорюка. О получении и принятых мерах донести".
--------------
IX.
Записи Николая Быстрова.
Николай Быстров - председатель укома, он же исполком и чека - с первых грозовых дней ведет запись великой революции.
В толстой книжке с шершавой бумагой ("Общая тетрадь уч.... класса"), словно врач, пользующий больного, отмечает Быстров, может-быть, для истории, часы, дни и месяцы неведомой еще, кружащейся в бешеной свистопляске жизни родного края.
... Кабинет пуст. Только: широкий стол, два, мертвых сейчас, телефона и пара одинаковых кожаных кресел, мягких, как пух.