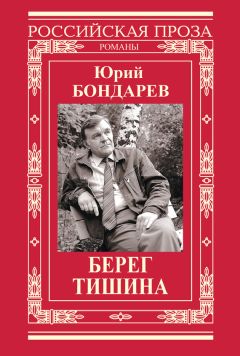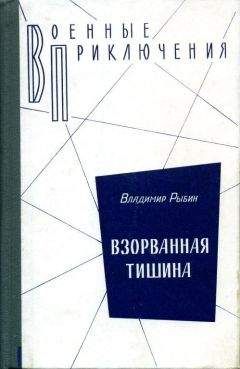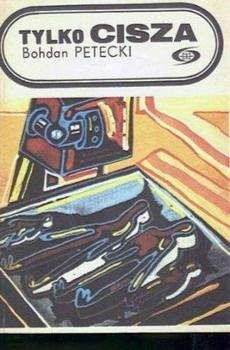Николай Ларионов - Тишина
- Как... убийцу...
Гантман встает. Он ниже Пелагеи. Она снова ставит миску на стол и, наклоняя грудь, улыбается озорно:
- Ну да! Кулак у него урожайный, спаси господи.
Гантман опускает глаза: в них отчаяние и бессилие. Ими не убедить в неправоте, а слова мертвы вдруг.
Значит, все видели только поднятую руку. Только. И когда священник упал, эта рука стала рукой убийцы...
- Что вы... Помолчите.
И вдруг темнеет комната: рот Гантмана смыкается с силой ртом Пелагеи - сочным, раскрытым жадно и слышен в мгновении скрежет зубов.
Под тяжестью скрипнул стол - Гантман дернулся назад, ошеломленный, а Пелагея вздыхает, выпрямившись:
- Молчу-у.
--------------
VI.
Пистолет-с.
На дворе хозяйский работник, натужившись, ладил хомут, прижимаясь к кобыле. Хозяин, запахнувшись в шубу, стоял на крыльце и приказывал:
- Им, сукиным сынам скажи, чтоб мололи чисто. А ежели уворуют... Сам перевешаю, не доверю.
Гантман вышел в пальто. Хозяин метнул бородкой.
- Раненько нынче, хе-хе... Кушали?
- Спасибо!
Подняв воротник, Гантман быстро пошел через площадь и площадь была, как ржаная лепешка, отсыревшая в воде, а утро застывшим свинцом свисало.
Улицы были пусты. По ним удало шагал ветер, взбрасывая в небо рваные кафтаньи полы человека Алеши. Он устало передвигал ногами, спеленутыми желтыми обмотками. Прилаженный к плечам мешок смешно телепался по спине, сморщившись от пустоты: это недоброе утро замкнуло все двери и хлеб превратился в камень. Люди были злы, встревожены чем-то, совали в Алешину руку корки наспех, косясь враждебно.
И бродил Алеша по улицам, где все знакомо, ворочая во рту языком корки, а от желудка шла тошнота.
Алеша зяб тоскливо, голова ныла от ветра, а ветер рвал небо в клочья и падали тучи кусками шерсти...
... Не согревает больше Алешу крапивная заросль у реки: ушло солнце. Которую осень уходит оно так, и берег пуст, как Алешин мешок. Сож не рябит больше синью, как лента в косе девичьей: река, как и утро, свинцовой окрасилась краской, движется от берега к берегу, за валом мутным рождая вал.
И на новую зиму, глубокую, нудную, нужен приют человеку - доска под крышей - тепло запаклеванного теса, чтобы вьюга казалась далекой музыкой там, на просторе, чтобы под музыку снега на теплой печи танцевали старые тараканы...
--------------
А через площадь - так приказал упродком - идут уныло первые снаряженные подводы, первая гужевая повинность. Идут в город, один из тех, куда смело, широко вошла новая жизнь, где мозг человеческий пляшет нестерпимо-бешеный галоп.
И Гантман, зло искривляя рот, смотрит в окно на подводы, и сельские старосты, - от квартала по одному, - став полукругом, слушают слова его, простые как гвозди:
- Завтра выгнать восемнадцать. Чтоб каждый из вас работал, а не кисель разводил. Город не спросит, хотим или нет. Восемнадцать - так восемнадцать, тридцать - тридцать, а не пять. Нажать на имущих, чтоб видели, гады! Нарядить не медля, чтобы в семь часов утра все восемнадцать!
Старосты поворачиваются молча. Гантман идет к столу.
- Позвать ко мне Маркелова!
Ушли мужики и - снова пусто. За окном стучит болт по бревнам. С плаката на стене ползет задорная улыбка красноармейца, штыком проткнувшего вошь.
Село вымерло будто, и старосты - каждый в свой квартал - подпрыгивая на ветру, пошли наряжать подводы.
И каждая хата приплюснута злобой, и ненависть скалится в оконца, плачущие дождем. И на каждом дворе стынут под навесами мохнато-рыжие стога, сочно жуют урожайный овес еще полнобедрые кони и в каждом амбаре шепчется рожь - горы темно-медных песчинок.
Гантман читает дневную почту и ему смешно почему-то до странности. Почту всегда привозит один и тот же верховой-неизвестный, заморенный человек в черном прикащичьем картузе и валенках. Гантман знает только, что человек этот - курьер уисполкома, а кобыла должна околеть от непрерывных загонов...
Служебная записка.
1) Люди все в расходе. В наркоме я, Крутояров и курьер.
2) Есть районы похуже вашего: туда бросили много.
3) Нажмите на гужналог, учтите продзапасы: требует фронт.
4) На помощника и продотряд рассчитывайте не раньше месяца.
5) Телефон будет.
Подписано: Н. Быстров. Он-же - председатель укома, исполкома и чека.
... Долго, долго еще быть одному, как ягненку в западне волчьей...
Сумерки не успокоили ветра в звенящих его наскоках, и шумела река гулом близкого бунта.
При свете поплевывавшей лампенки, странным гигантом вырос красноармеец на плакате и с веселой улыбкой, казалось, бодро подмигивал Гантману.
Если бы, сойдя со стены, внезапно, винтовку поставив в угол, стал плакать человеком, он бы сказал, наверно: "Крепись".
... Долго, долго еще быть одному, как ягненку в западне волчьей...
--------------
Уже перед ночью пришли мужики и сказали, что Игната Маркелова нет, что скрипит замок на дверях его хаты, а ставни сбиты гвоздями, что на дворе склонилась на бок телега и на ней два колеса. И нет ни Маркелова, ни лошади его.
--------------
Когда Гантман вернулся домой, хозяева спали.
В кухне было тепло, пахло гвоздикой. В углу перед образом белел язычок лампадки.
Хозяин, заспанный, жаркий, зябко потирая руки, вышел из спальной.
- Вот.
В руке его что-то заблестело ярко. Гантман вздрогнул.
- Что это?
- Пистолет-с... Забыли утречком.
Гантман нахмурился, опустил револьвер в карман. Хозяин стоял рядом и все время потирал руки. Гантман шагнул к двери.
- Э-э... Тут в заполдник староста приходил, э... э... В подводы опять требуется. А у меня, знаете, подбилась окончательно, с мельницы на обратной дороге, да. Так вот, нельзя-ли ослобонить, в роде как?
Стариковские глаза заискивали.
- Ведь, у вас три лошади?
- Верно, три. А те там заночевали, на мельнице, да. Так можно, значит?
Гантман молчал.
На кухонном столе разлегся большой белой муфтой кот, а рядом - опрокинутая дном тарелка, и к белому кругу дна будто прирос золотой.
Гантман взял тарелку, поднес к глазам и усмехнулся: в кругу была золотая корона и надпись под ней: Pascevith.
--------------
VII.
Новая весна.
Девятнадцатого года весна пришла очередями у лавок, вспухшая тифом. И никогда еще земля не была так похожа на человечьи лица.
... четверть...
... полфунта...
... золотники...
И пусть этот город был Энск, пусть мудрая математика упродкома в лице товарища Крутоярова ухитрялась разделять золотники на тысячи ртов, раскрытых одинаково жадно; пусть в каждом доме, где любят еще белую булку и цимус, этими золотниками сколачивали гроб совету депутатов, - была весна. А по весне, когда ручьи играют в пятнашки, человек-прохожий всегда остановится на углу и беспричинно улыбнется.