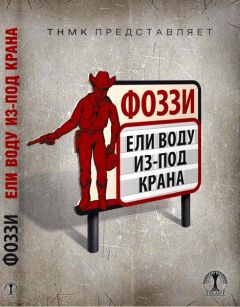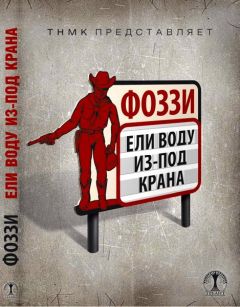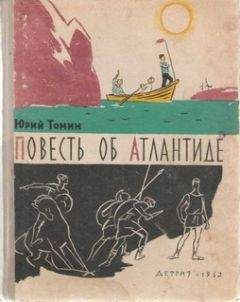Михаил Савеличев - Самурай
Много, очень много, ибо чем проще мысль, чем она ближе к истине и, даже, чем она яснее осознается как наиболее правильная, тем труднее ее принять, принять не как мысль — маловразумительный хаотичный клубок слабых токов, а как неотъемлемую часть окружающего мира, ощутить ноэтический щелчок вставшей на свое место детали, навсегда избавляющей от еще одной порции иллюзий и надежд, облегчающей резкое, контрастное восприятие мира, наконец-то очищенного от розовых оттенков дифракционной решеткой из неправдоподобно тонких лезвий струнного ножа.
…Он позвонил в дверь как это делали много раз различные любители поживиться за чужой счет, и я обрадовался тому, что наконец-то смогу избавиться от суррогатной боли кипятка в большой кастрюле, в которую опускаю руку, избавляясь от того самого напряжения, издевательски, маньячно похожего на семяизлияние в узкое влагалище, ведь резать там нечего — мне только страшно, что кожа лопнет и слезет с мышц, точно кожура с перезревшего банана, лишая возможности вершить правосудие, и я выключаю огонь, с удовольствием глядя на угасание мелких пузырьков в толще мутной воды, лечу к двери, совершенно позабыв об орудии производства и лишь слегка расстраиваясь на повторяемость ситуации, на унылость разрешенной позиции, из-за чего опрометчиво решаю поиграть стоящей за дверью мышкой, побросать ее в воздух, подхватывая когтистой лапкой, слегка придушивая и обманчиво выпуская из острых зубов, вежливо с ней разговаривая о погоде и интересуясь ее мнением о вкусе консервированных голубцов.
Я даже допускаю непростительную, дилетантскую ошибку — не заглядываю предварительно в глазок из бронированного стекла, чтоб неповадно было шутникам, дождавшись его потемнения всаживая туда пулю, и это пугает моего посетителя, привыкшего к неписаному ритуалу — если тебя не ждут, не разглядывают тщательно твою физиономию, то лучше побыстрее ретироваться, дабы не напороться ненароком на пару коротких автоматных очередей или один залп из гранатомета, но уж если тебя самым внимательнейшим образом осмотрели, попросили глухим голосом повернуться в фас и профиль, раздеться до белья, разрядить все имеющееся оружие и дополнительно показать свидетельство о прививках, то можешь быть спокоен — прежде чем убить, тебя доброжелательно об этом предупредят.
Выглянув в коридор, я вижу широкую беззащитную спину посетителя, так как он сейчас пытается, пользуясь лишь одной ногой и парой костылей, вырезанных из корявого гнилого дерева, с обмоченными в резине концами и неудобными полумесяцами, чуть ли не вырывающими руки из тела, настолько глубоко они врезались под мышки, как можно быстрее спуститься вниз, при этом понимая, что ему не успеть, и он трогательно старается вжать голову в могучие плечи, закрыть ее всем телом, чуть ли не прижавшись носом к груди, и мне в первый момент видится совсем уж абсурдное действо — калека без головы, с какими-то кудрявыми клочками, ранней зарей встающими над телом от плеча до плеча.
«Стой! — весело ору я, — не бойся курилка, стрельбы не будет», но что будет — я благоразумно держу пока при себе, ведь неизвестен оборот событий, и он действительно оказывается неизвестен, ведь ко мне пришел ни кто иной, как Заказчик. Именно так — с большой буквы, с сильным телом, костылями и давним шапочным знакомством со студенческой скамьи.
Интересное, все-таки, дело — время, которое лишает нас стольких иллюзий, что даже только ради этого его стоило придумать, и нет ничего глупее, чем бороться с ним, плакать над ним, глотая горькие пилюли сентиментальности, встречаясь со старыми друзьями, оказывающимися на самом деле старыми, но никак не друзьями, и возвращаясь в места былого детства, где снесены все ограды, где двор ужался до стариковского размера в аккурат со скамеечку под увядшим кленом, где глаза останавливаются на многочисленных помойках, видя в них исключительно грязь и разложение, а не хранилище тысяч интереснейших вещей.
Несмотря на катастрофичность изменений, я сразу его узнал, точнее — узнало что-то во мне, сразу же поставив временный блокиратор на готовую разжаться стальную пружину, так как гость, несмотря на свои костыли, был тотчас же квалифицирован как бесполезнейшее и вреднейшее существо на нашем дереве — такой безобидный, туповатый, прожорливый короед, настолько озабоченный прокормом своей многочисленной семьи, что готов препарировать, избавить от коры весь наш дуб, и так загибающийся от ядохимикатов. Немного дихлофоса на жабры и все, дело сделано, спи спокойно какое-то время без циничных мук мировой совести.
Мой голос еще больше пугает его, тем более, что по привычке я говорю с ним как с бандерлогом — вязко, убеждающе, приказующе, устрашающе, для смеха пуская погулять по смежным мирам гулкое эхо, которое заставляет вибрировать пространство, словно готовую лопнуть струну, заодно перерезающую и его мировую линию, отчего проситель замирает в раскоряченной позе, размазавшись чуть ли не по четырем ступенькам сразу, благо количество конечностей это позволяет, вибрации помогают ему сохранять неустойчивое равновесие, он не может двинуться вперед, но не хочет возвращаться и к моей двери, и поэтому выбирает компромисс — аккуратно составив костыли и ноги на одну плоскость, поворачивается ко мне лицом, и я, наконец-то, имею сомнительное счастье признать его физиономию, несмотря на то, что она прижата подбородком к выпуклой грудной клетке, завешена грязными занавесками седых косм и заляпана розовыми пятнами сильнейшего диатеза.
Он спокойно смотрит на меня, но я не обманываюсь подобной безмятежностью — так смотрят потерявшие все до последний нитки, до последнего друга, до последней надежды, ведь только надежда на лучшее заставляет нас ненавидеть мир, и избавляясь от нее и всего, что ей сопутствует, мы оказываемся в мире с самим собою.
Впрочем, еще какие-то искорки заметны во мраке спокойствия, и я снова узнаю их — это я собственной персоной, последняя надежда, последний избавитель, последний друг, как не удивительно звучит это для переевшего сладкое человека, так как я никогда не считал его своим другом. Было дело, было время, знакомство, пирушки, девочки, горы, кажется. Угасшая звезда ушедших поколений. Все пусто, сгорело, сгнило и спрело, и какие еще придумать слова дабы разжалобить мое сердце? С дружбой разобрались, она не стоит и тех костылей, на которых он стоит; над памятью тех времен еще можно поплакать в унисон, но подобное только злит, и я опять же не вижу резона говорить, просить и жить дальше.
Человек (назовем его так) осознает, что лишь слово будет решающим в его судьбе, и ему остается совсем легкая задачка — выбрать из миллиардов ненужных звуков то единственное сочетание, которое заставит меня принять его и выслушать, с глубоким сожалением втыкая в свою ладонь тупой гвоздь, словно дрессировщик хлыстом и палкой сдерживая тигра, на голодный желудок почуявшего запах свежей крови. А я его чую с расстояния в восемь ступенек и готов зарычать, сделать последний решающий бросок вниз, но тут заросший вкруг щетиной, больше похожей на мушиные волоски, рот резинисто разлипает и выталкивает навстречу то единственное, верное, давно мной искомое и ожидаемое слово — заказать…