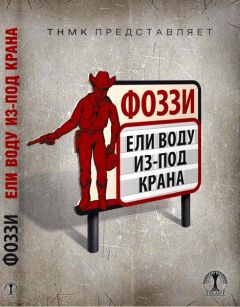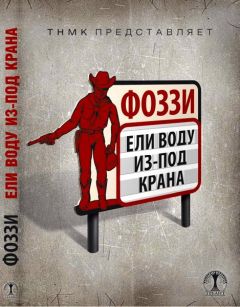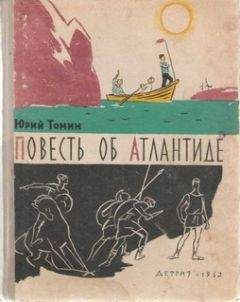Михаил Савеличев - Самурай
Приходится вновь брать инициативу в свои могучие руки, и в отместку теперь разливаю неровно, то есть ему меньше, что заметно только после того, как жидкость устаканилась, но я с хрюканьем приканчиваю белоголовую, пока вшивая интеллигенция вновь восстановила равновесие на неудобном табурете, подправила разъезжающиеся костыли, попытавшись попутно закончить очень умную мысль, так и не доходящую до моего сознания и, поскольку ритуал исполнен, я перехожу прямо к делу, то есть угрожающе рычу, спрашивая какого хрена ему от меня надо.
Он вновь понес околесицу о заказе, о своей трудной жизни, где нет продыху ни дома, ни, тем более, на работе, так как дома жена под воздействием неизвестного излучения и полного отсутствия интимной жизни переродилась в циркулярную бензопилу, причем не надо принимать это как затасканный речевой оборот в подвыпившей мужской компании, а следует понять вполне фигурально.
Началось с характера, который в девичестве и первые десять лет совместной жизни она очень искусно скрывала, но затем тот из нее попер, что твои тараканы на хлебную крошку, и ладно бы так и остаться ей занудливой, худой и пресной, чем-то смахивающей на параграф в толстом учебнике, но со временем он заметил, что занудные речи супруги обретают вполне материальное воплощение. Пришел домой поздно — получил очередную порцию противного ржавого визга и кровоточащую царапину на запястье, которою он поначалу принял за вполне естественную расплату за лазанье по колючей проволоке; принял немножко для храбрости — награжден плачем и причитаниями о том, зачем она вышла за него, а не за Толяна, ездящего на мотоцикле, и в довесок — сквозная дырка в ладони, как будто он где-то походя умудрился повисеть на кресте; не пришел однажды ночевать, плюнув на ее странности последних дней и соблазнившись некой шлюхой, ртом и влагалищем больше похожей на помойную яму, в которую ему все же хватило ума не залезть (спасибо последним конвульсиям издыхающей брезгливости), — получил по утру уничижающее, презрительное гробовое молчание и страшную рваную рану на боку, открывшуюся лишь только он переступил порог дома и встретился взглядом с женой, что совершенно исключало материалистическое объяснение феномена и обвинение жены в членовредительстве.
Его тогда откачали, кое-как залатали, всучили костыли и посоветовали не приходить поздно домой, в общем-то не имея в виду ничего конкретного, так как он, естественно, ничего никому не рассказал, ибо еще и сам мало что понимал, пока в один отвратительный похмельный день звенья логической цепочки от нечего делать сложились в голове, и он к тому же вспомнил, что от жены стало почему-то попахивать бензином и солидолом, а правую руку она всегда укутывает в толстую ватную прихватку, изображающую курицу, да и взгляд у нее стал стальной, жесткий, беспощадный, будто у лесоруба, оценивающего столетнюю сосну перед тем, как ее свалить.
Ему еще сильнее захотелось выпить, он даже встал, чтобы направиться по известным адресам, где с распростертыми объятиями встречают каждого третьего, но взглядом наткнулся на фотографию жены в фате и, словно в ответ на его нелестные и покаянные мысли, услышал доносящийся из кухни противный механический визг, ввергнувший его в такое состояние ужаса, что он немедленно решил туда направиться и все окончательно выяснить.
Как он туда добирался, не помнил, но увидел там только одно — из рукава здорово обмахрившегося халата жены торчала устрашающего вида блестящая циркулярная пила, которой она неловко резала хлеб и мясо, от них во все сторону летели крошки и кровавые обрывки, опилки разделочной доски и стола, а одна противная щепка угодила ему в глаз, но перед этим он успел увидеть нечто окончательно его потрясшее — счастливую улыбку жены, с трудом проявляющуюся на неумелых, сморщившихся губах.
Я начинаю немедленно строить планы разборки этой манды с бензопилой на запчасти и сборки из нее нечто более пригодного для домашнего хозяйства, скороварки, например, или микроволновой печи, если попробовать подобрать ей подходящую парочку из другой какой-нибудь бабы, превратившейся, например, в телевизор, или… или… но гость тут же махнул рукой, крикнул, что я ни черта не понял, что это только начало, переход к главному, с механическими особенностями своей бабы он уже смирился, пообвык, даже стал находить в ней некую прелесть, так как жена научилась готовить удивительно нежные фарши и паштеты, да и ходить по улицам с ней безопасно, а то, что бензином и смазкой воняет, так это не самая худшая вонь в нашей жизни.
Понуро замолкаю, начинаю чесаться в паху, в голове, ковыряю в носу указательным пальцем, запихивая его туда чуть ли не на всю длину, а потом старательно облизываю, снимаю со стенки самый большой резак и обрубаю им ногти, выросшие за несколько секунд до чудовищных размеров, рыгаю зловонным перегаром и слушаю дальше порядком поднадоевшие байки.
Тем не менее, гость не заметил моих телодвижений, которые должны были заставить его побыстрее рожать историю, а так же несколько отвлечь меня от нестерпимого желания закончить работу, полностью поглощенный собственными переживаниями, и остается только гадать — что же еще могло случиться такого, если бензопила не произвела на него особенного впечатления?
Он надолго прервался, уставившись в одну точку, находящуюся где-то над моей головой, неподвижным, каким-то замерзшим взглядом, даже перестав, кажется, дышать, и ради любопытства задраю голову, с трудом оторвав тяжелый подбородок от груди-опоры, упершись плоским затылком в плечи, закатив поросячьи глазки под мощные надбровные дуги, сразу закрывшие все поле зрения, из-за чего приходится еще прогнуть и спину и в такой неестественной, какой-то обезьяньей позе пытаюсь разглядеть медитативную точку, которая оказывается ничем не примечательна, ничем не отмечена, если не считать крошечную кляксу от погибшей от моей руки моли. В этом теле тяжело смотреть, соображать, двигаться, и я на мгновение позволяю краскам немного оплыть, растечься, призрачный контур биндюжника растворяется, словно туман под жарким солнышком, я с облегчением приваливаюсь к стене и шевелю челюстью, совсем занемевшей от необходимости изъясняться подобным арго.
Отдыхать мне позволено немного, как только я окончательно расслабляюсь, выйдя из картины и оставив на холсте большую, оранжево-бурую кляксу, когда-то бывшей моим нарисованным телом, он отрывается от созерцания праха моли и смотрит на меня, помаргивая слезящимися глазками, и я с какой-то удивительной жалостью признаю в нем своего однокашника.
Нет, конечно, я знаю, что это он, но только теперь это знание затрагивает давно расстроенные струны, они начинают фальшиво звенеть, вызывая поначалу такие же расстроенные чувства былой дружбы, знакомства, общности, которые так легко подделывает каждый, не к месту встретив занудливого соседа по парте или бывшую любовницу, но потом колки со скрипом поворачиваются, откликаясь на требования того моего «Я», для которого мир еще имеет ценность, пружинистые линии натягиваются, порождая пронизывающую тоску от потери и любви.