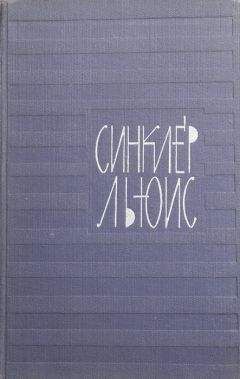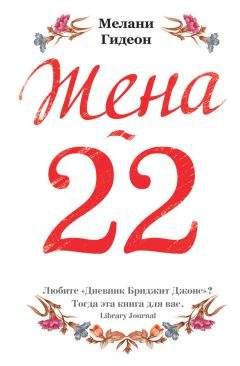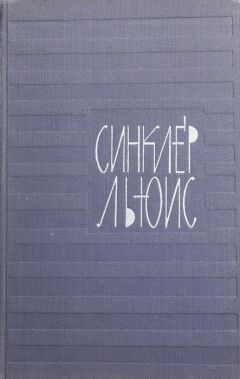"Современная зарубежная фантастика-4". Компиляция. Книги 1-19 (СИ) - Греттон Тесса
Он садится на стул, по обеим щекам со лба течет кровь. Шима слизывает соль между дедушкиных пальцев, бабушка прикладывает к ране политый перекисью сопливый платок. Правая щека дедушки черная и опухшая.
– Это Младек и его паршивые городские дружки, – объясняет он.
Младек – городской дурачок, его тело всю жизнь потребляет свинину, а мозг питается исключительно бессмысленной злобой. Он разгуливает по городу как наделенный властью шериф с подчиненными – приехавшими на каникулы из Праги подростками – и напивается до полусмерти на родительскую зарплату. Он из нового поколения юных чехов, чья неполноценность спровоцирована и субсидирована коммунизмом, что и делает его бесполезным для общества. И конечно, в позоре нашей семьи Младек нашел для себя новое развлечение.
– У того фашиста на майке осталась красная краска. Мне теперь придется все перекрашивать. На мою убогую пенсию.
– Но, по крайней мере, не такую убогую, как раньше, – говорит бабушка.
– Вечно ее не хватает, – отвечает дедушка. – Господа меняются, а простым людям достается все то же убожество.
– Не вертись.
– Ты побил их? – спрашиваю я.
Бабушка смотрит на меня так, будто я наступил на ее любимый цветок или забыл покормить Шиму.
– Ну конечно. Ты же знаешь, Якуб, я дрался. Жаль, что ты их не видел, проклятых варваров, говнюков фашистских. Я схватил этого Младека за крысиный хвост и макнул шнобелем в мостовую.
– Мы совсем не такого хотели, – негромко говорит бабушка.
– Это все он. Тот тип с башмаком. Никому до нас дела не было, пока он не явился сюда и не начал языком трепать. Но мы можем уехать.
– Мы не сделали ничего плохого, – говорит бабушка. – Сына старой Седлаковой посадили в тюрьму за то, что лапал подростка, ну и что вы видите у нее на воротах? Ничего. Все так и норовят погладить ее по плечу, эту бедную женщину, родившую монстра, – «Вот, мы испекли для тебя штрудель». Почему же ей не приходится убегать? Мы-то чем хуже?
– Страну шестьдесят лет оккупировали не извращенцы, – отвечает дедушка.
– Они всю планету оккупировали с начала времен.
Бабушка перевязывает ему рану, наливает от боли три рюмки сливовицы, хотя от его дыхания и так несет ромом и пивом. Они молча удаляются в свою спальню, и я тоже залезаю под одеяло. Шиме кровати запрещены, но я все равно беру его к себе, зарываюсь носом в шерсть, пахнущую бабушкиной стряпней и немного шампунем от блох. Дедушка обычно громко храпит всю ночь, но сегодня в доме тихо, лишь по крыше шаркают ветви яблони. Мне не спится, в первый раз после похорон родителей.
Мой отец любил Элвиса Пресли. Покупал его записи у немецкого актера, занесенного в черный список, тот ввозил их через Берлинскую стену. Отец готов был слушать Пресли, когда готовил, когда готовила мама, перед сном, в туалете, в ванной, глядя в окно на клонированные бетонные коробки стандартных домов, ужасающих и впечатляющих своей функциональностью. Женщины возвращались с работы и набрасывали мокрые платья и лифчики на веревки, укрепленные на палках прямо за окнами, и ряды мокрых тряпок разлетались, как паруса удирающего от погони пиратского корабля. А мужчины шли медленно, понурив головы, выбирая, пойти ли в пивную, рискуя попасть под арест, если ляпнут за пивом лишнее, или возвращаться домой к телевизору с одной программой и полке однобоких книг, неспособных разнообразить пустоту жизни. Отец курил и кивал в такт музыке, и, казалось, все шло так, как он и хотел.
«Не рассказывай никому про Элвиса», – говорил он за завтраком. Его любимая фраза. Тех, кого уличали в увлечении западной музыкой, вызывали на допрос – по словам отца, ничего серьезного. Хотя теперь я думаю – а что значило для него «ничего серьезного»? Просто комната с маленьким окошком и случайный товарищ, выспрашивающий, почему тебе для счастья недостаточно даров матери Совдепии?
Как-то мама обнаружила коробку с записями на кухонном столе, а не в обычном тайном месте в кладовой.
– Ты лишишься работы, если кто-то это сфотографирует через окно, – сказала она.
Отец обнял ее за талию, осторожно провел пальцами по краям пластинок.
– Пусть хоть тысячу раз фотографируют, – сказал он, – мы как жили здесь, так и будем жить, и пить кофе, и чистить картошку. На стукача никто не настучит.
Через пару дней я увидел, как отец, приставив чашку к стене между нашей и соседской гостиными, слушает через ее пустоту. Приложив к губам палец, он поманил меня, опустил чашку до высоты моего роста, и я тоже послушал. Ровный голос, пробиваясь через помехи, говорил о том, что нехватка картофеля во всем Советском Союзе – очередной признак бесхозяйственности Москвы. Радио «Свобода», смертный грех, враг. Отец ушел в спальню и набрал телефонный номер. Спустя примерно час в коридоре раздались крики. Приоткрыв дверь, я увидел, как пана Стрешмана и его сына Станека забирает полиция. Я почувствовал дыхание отца на затылке, и пан Стрешман ровным голосом неживого радиодиктора выругался в сторону нашей двери. «Подлый стукач», – сказал он. И еще раз, и еще.
Теперь мне хотелось расспросить отца. Если бы я только мог, то привязывал бы его к стулу и ставил на колени горячий чайник до тех пор, пока он не рассказал бы мне все о своей работе, о государственных тайнах, не сказал бы, чем он занимался. Он всегда действовал так спокойно – опускал иглу на проигрыватель, ласкал маму, снимал телефонную трубку, вечно с прямой спиной, чуть покашляв до того, как заговорить официальным тоном, – и я не мог представить, что он вовсе не был героем. Он проигрывал свои записи, а я молчал.
И теперь я лежу, наблюдаю, как кошка цепляет безжалостными когтями жука на подоконнике. Встает солнце, а дедушка не храпит, и я сбрасываю с себя тяжелое одеяло, и пылинки плывут в лучах, словно первая пыльца лета или как проекции звезд на стене в планетарии.
Утром мы с дедом выходим за ворота, с чашками чая. За ночь руку к ним приложило еще больше художников. «Фашист, марксистский ублюдок», «любовь и правда торжествуют, твари» и просто «убирайтесь». Вандалы в конце концов устали малевать буквы и перешли на примитивные кресты и полосы в красно-сине-белом, цветах Республики. Вонь мочи перебивает запах моего чая с лепестками роз, она очень сильная. Дедушка берет велосипед и едет покупать краску. Возвращается через два часа, такой пьяный, что его левая ягодица не держится на сиденье.
Большинство деревенских детей никогда меня не любили – я же городской и всегда таким буду, им казалось, что я считаю себя выше из-за их деревенских корней, хотя для меня Стршеда была таким же домом, как и Прага. А теперь неприязнь перешла во вражду – на меня кричат, преследуют на велосипедах, и поэтому я стараюсь держаться поближе к взрослым. Вражда взрослых более скрытая. Когда я иду за мороженым по главной улице, оклики женщин «Здравствуй» или «Как дела?» звучат обвинениями, словно их благополучию мешает мое.
А мужчины, молодые и старые, молчаливо-агрессивны и при виде меня всякий раз сжимают кулаки, напрягая бицепсы. По-другому ведет себя лишь один человек – мой друг Боуда. Мы с ним вместе проводили летние каникулы с тех пор, как нам исполнилось по три года, и теперь он остался моим единственным другом и компаньоном. Боуда никогда не говорит о моих родителях, не упоминает о моем прошлом. Мы просто ходим на Ривьеру, деревенский вариант пляжа, купаемся в реке, когда нет других детей, собираем муравьев в банки из-под супа, пробуем в лесу первую сигарету.
Дожди прекращаются, мир становится манящим и жарким, только бабушка больше не ходит каждый день в магазин, а дедушка смотрит телевизор вместо того, чтобы пойти в пивную. Часто я застаю его за просмотром раздела о квартирах в газете, он обводит пражские объявления. Когда я подхожу, он молчит и прячет газету. Мне не хочется думать о переезде из этого дома, нашего дома. Хотя я вырос в Праге, Стршеда всегда была для меня святыней, мама тут часто улыбалась и водила меня на многочасовые прогулки, отец больше говорил, и никогда о работе или политике. По ночам тут не ездят машины, а в полях, вдали от уличных фонарей и золотого света лампочек, просачивающегося из окон, стоит полная темнота.