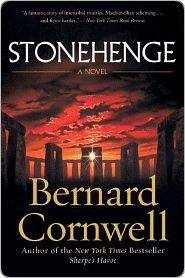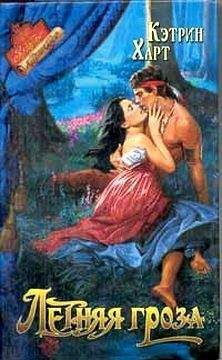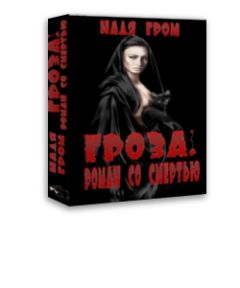Саманта Хант - Изобретая все на свете
— Да, — отвечаю я рассеяно, думая о встрече с моей птицей. Я осматриваю небо над головой. — Много.
Мы стоим у юго-западного входа.
— Там работает мой отец, — говорит Луиза, указывая на библиотеку за парком.
Я смотрю.
— Он библиотекарь?
— Нет. Он ночной сторож.
— Еще лучше. Он, значит, бродит среди книг совсем один?
— Один, если я к нему не прихожу.
— Вам повезло. Вот откуда в вас такое любопытство.
— Должно быть, так, — отвечает она, улыбаясь.
Мы входим в парк.
— Вы не могли бы устроить меня на этой скамье? Видите там человека с большим носом?
— Нет. О, это вы о бюсте?
— Да. Оставьте меня там и потом, если вам не трудно, отнесите эти орешки к фонтану. Они любят там кормиться. И, спасибо вам, Луиза. Большое спасибо.
Она подводит меня к скамье рядом с Гете и помогает сесть.
— Спасибо, — опять благодарю я.
Она поворачивается, чтобы отойти, но не успевает. Я останавливаю ее.
— Луиза, голос, который вы слышали — мог это быть голос вашей матери?
— Не знаю. Я никогда не знала своей матери.
— Понимаю. Но мог?
— Все возможно.
— Да, — улыбаюсь я, — почти все.
— Вот как работает ваше устройство? — спрашивает она. — Позволяет говорить с умершими?
— Может быть.
— Но как это возможно? Пожалуйста!
— Вам никогда не рассказывали про бедную кошку, которую сгубило любопытство?
Она смотрит в землю. Ее глаза прожигают щебенку, как будто она отводит от меня свою ярость.
— Пожалуйста, — повторяет она.
Я колеблюсь в поисках выхода.
— Это возможно, то есть возможность существует, вернее, возможно все — ну, например, в некотором роде… ох, не знаю, как объяснить.
Она согласно кивает.
— Ладно. — Я оглядываю парк. — Это старая идея, заимствованная, должен признаться. Идите сюда, я вам шепну, не то мой брат придет в ярость.
— Не знала, что у вас есть брат.
— Мы вместе работали над тем устройством. Ему не понравится, что я о нем рассказываю.
— Расскажите, — снова просит она.
И я сдаюсь. Она склоняется ко мне, подставив ухо. В него я шепчу тайну своего последнего изобретения, нашего последнего изобретения — изобретения, которое снова изменит мир, как только будет закончено. Я старюсь объяснять не слишком подробно.
Проходит минута.
Я сажусь прямо. Она опять кусает губы.
— Правда? — вот и все, что она спрашивает.
— Да.
И она улыбается знакомой улыбкой: что творят с нами чудеса. Она отворачивается, идет к фонтану, откинув голову, следя за птицами в небе. Капюшон соскальзывает с ее головы. В Брайант-парке мороз, и от облаков в небе становится еще холоднее. Мимо меня проходят три одиноких дельца, срезающие через парк дорогу к «Ай-эн-ди» на Шестой авеню. Никто не задерживается в парке. Ветер срывает ледяные кристаллики с наметенных сугробов, так что каждый порыв ветра режет мне щеку словно мокрым стеклом. Я наблюдаю за Луизой. Сперва она рассыпает арахис очень медленно, выпуская из горсти по одному-два орешка зараз, будто Гретель, отмечающая дорожку к дому. Но когда собираются птицы, она начинает сыпать корм щедрее, метать горстями. За несколько секунд она оказывается в центре безумного торнадо, серые и лиловые голуби наполняют воздух. Чем меньше она движется, тем ближе подлетают к ней птицы. Они кивают головками. Почти все собрались. Тот, с покалеченной лапкой, и те, что будто купались в пережаренном масле. И красавцы тоже. Некоторые и не смотрят на корм, танцуют, кланяясь и приседая перед подругами.
Я пробую позвать. Мне не хватает дыхания, и зов разносится не слишком далеко, зато разрывает холодный воздух:
— Хуу-ху. Хуу-ху.
Я жду. Пары и семьи проходят мимо, ускоряя шаг. Я снова проверяю, что у меня за грудиной. Не там ли она? Конечно, нет. Птицы не живут в грудной клетке у людей. Я до того схожу с ума от беспокойства, что пропускаю ее появление.
— Стало быть, любовь уничтожает, а мысль создает? — спрашивает она.
Она застает меня врасплох.
— Я говорил о человеческой любви, само собой, а не об идеальной привязанности между человеком и птицей.
— Никола, — говорит она.
Я отрываю подбородок от ладоней.
— Милая.
Налетает ветер, и парк расплывается у меня перед глазами.
— Я так волновался за тебя, — говорю я.
— Да.
Когда я однажды попытался объяснить ей, что такое «волноваться», она, выслушав мое описание, сказала: «Думаю, птицы этого не делают». Конечно, нет. Птицы не испорчены беспокойством, этим серьезным несовершенством, отягощающим людей, удерживающим нас от полета.
Она снова пристраивается на голову Гете.
— Ты плохо выглядишь, Нико.
Я мог бы сказать то же самое о ней. В ее глазах какая-то усталость, и перья в беспорядке. Я молчу, но это ничего не значит. Она слышит, как я это думаю. И прощает, кивая.
— Так горничная включила новую установку? — спрашивает она.
— Да.
— Я не знала, что она готова.
— Она не готова. Девушке повезло, что ее не убило.
— Я сомневалась, что она будет работать. Если честно, я не была уверена, что она существует.
— Да, наверно, я тоже. Конечно, я допускал такую возможность, — говорю я.
— Все возможно, — напоминает она.
— Все? — спрашиваю я.
— Нет, Нико. Люди все еще не могут летать.
Это наша с ней старая шутка, и никто из нас не смеется ей. Она слетает на скамейку рядом со мной. Позволяет бережно посадить ее на локоть, тот, что у сердца. Мы оба смотрим на поэта, на мощную голову энциклопедиста.
— Отворите пошире ставни, — говорит она, — больше света.
— Откуда это? — спрашиваю я.
Слова кажутся знакомыми.
— Его последние слова.
— Гете?
— Да.
— Верно.
Хотя я начинаю удивляться, зачем она это сказала. Я понимаю, что не стоит этого делать, но все равно задумываюсь над вопросом, ответа на который знать не хочу.
— Зачем?
— Может быть, в комнате было темно.
— Нет. Зачем ты это сказала?
И она отвечает мне, без всякой театральности, как будто вытряхивая песчинку из-под перьев.
— Потому что я умираю.
Она говорит это так, как иной сказал бы другу: «Я тоже люблю купаться».
Снова поднимается ветер, ерошит ей перья, развевает мне волосы. Мне нечего сказать, и потому из меня улетучились все слова. «Нет, не умираешь». К чему это нас приведет? Я прижимаю ее крепче. Занавес падает. Вид, звук, запахи исчезают. Любовь действительно уничтожает, снова и снова. И удивительнее всего видеть, как упряма надежда.