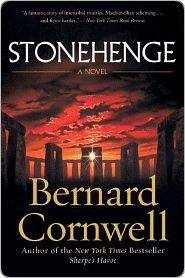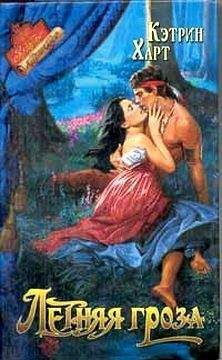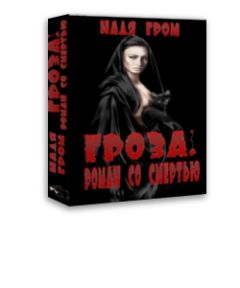Саманта Хант - Изобретая все на свете
— С Марса? — она выдавливает слово так, будто планета застряла у нее в горле.
— Сначала я хотел поговорить с Парижем, но Париж — это так скучно в сравнении с Марсом. Я уже бывал в Париже. Так что я каждую ночь нацеливал антенну передатчика в небо. В Колорадо такие тихие ночи. Ничто не мешает. Я посылал сообщения к красной планете.
— И что вы им передавали?
По ее тону я чувствую, что ее доверие несколько подорвано. Марс становится камнем преткновения для всех — кроме меня.
— Я посылал им последовательность сигналов, которую, на мой взгляд, можно было распознать как искусственную, в которой даже марсианин мог распознать сообщение. Я посылал эту последовательность каждую ночь и потом, свернувшись у приемника, ждал ответа. Это были удивительные ночи, Луиза, ясные и холодные. Я был как во сне, так что, когда пришел ответ, не могу сказать, чтобы удивился.
— Ответ?
— Да.
— Вы говорили с марсианами?
— Общался. Не могу назвать разговором обмен простыми повторяющимися сигналами.
— Вы общались с Марсом?
— Да, — говорю я ей и не отвечаю на ее улыбку. В воспоминаниях есть свои темные пятна.
— И что сказали марсиане?
— Это было общение другого рода. Более низкого порядка.
— Низкого порядка… — повторяет она.
— Да. Деликатный вопрос. Трудно объяснить.
— О, понимаю, — говорит она.
Я смотрю себе под ноги. Мои руки и уши уже прочувствовали холод. Заголовки гласили: «ТЕСЛА ЗАШЕЛ СЛИШКОМ ДАЛЕКО?» и «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ БЕСЕДУЕТ С МАРСИАНАМИ?». Вопросительный знак в заголовках нависал надо мной. Я, когда-то считавшийся лихим холостяком, гением, быстро превращался газетами в вопросительный знак, в расхожую шутку, в сумасшедшего ученого. Я должен был предвидеть, что намек на общение с другой планетой — слишком сложная идея для понимания газетчиков.
— Надо быть осторожней с тем, что слышишь, — предупреждаю я ее.
— Но ведь человек не может не слышать того, что слышит.
— Пожалуй, нет. Я хотел сказать, надо быть осторожнее, рассказывая о том, что слышал. К тем, кто слышит что-то, неслышное другим, относятся без особого снисхождения.
Луиза вдруг останавливается. Наклоняется ближе, крепче сжимает мой локоть. Мне приходится немного выпрямиться, отстраняясь от нее.
— Мистер Тесла, — очень медленно говорит она. Дышит мне в щеку. — Я что-то слышала.
— Что?
— Говорила женщина, — говорит она шепотом, как на исповеди.
Глаза ее широко открыты, под зрачками видны широкие полоски белков. Мы стоим, уставившись друг на друга.
— Аппарат? — спрашиваю я.
Она кивает — да.
Я поднимаю руку к подбородку — так мне лучше думается.
— Кто это был?
— Я вас хотела об этом спросить.
— Ну, что она вам сказала?
— Какую-то бессмыслицу, как обрывки фраз, которые остаются от сна, в них ничего не понять. Не вспоминается.
Я не знаю, что сказать, и снова шагаю вперед.
— Женщина?
— Да, — говорит она, — но, может, я просто слышала голос из коридора.
— Может и так, — соглашаюсь я, хоть и вижу, как она наблюдает за моей реакцией. Я улыбаюсь, давая ей понять, какого я мнения о теории голоса из коридора.
— Почему вы не остались в Колорадо?
— К чему этот вопрос?
Она вздыхает.
— Просто гипотеза о том, что за голос я слышала.
— Чей?
— Сначала скажите, почему вы уехали.
— Я часто сам себя об этом спрашивал. Время, проведенное в Колорадо, было чистейшими годами изобретений. Возможно, это из-за снега или от одиночества. В моих прериях все было идеально.
— Я знаю, почему вы вернулись в Нью-Йорк.
— Вот как? Скажите.
— Ради нее.
— Катарины?
— Да.
— Луиза, вы неизлечимы. — Я скашиваю на нее взгляд. — Хотя в одном вы правы. Когда станут подводить итог моей жизни, наверное, так и скажут. «Он вернулся в Нью-Йорк ради любви». Но позвольте вас заверить, что я вернулся не ради Катарины.
— Вы ее не любили?
— Она была женой моего лучшего друга.
Луиза кусает губы.
— Вы не ответили на мой вопрос.
— Любовь — не обязательно то, что думают о ней люди. Она отвлекает мысли, а я всегда считал мышление гораздо более благодарным занятием, чем любовь. Любовь уничтожает. Мысль создает.
— Любовь тоже может создавать.
— Правда? — я снова поддразниваю ее. — Что знает о любви юная Луиза?
— Много чего.
— Неужто?
Она медлит, прежде чем представить доказательства.
— Мой отец до сих пор любит мою мать.
— Вот об этом самом я и говорю. Вы сказали, что ваш отец любит мать. Но почему вы не сказали: «Мои родители любят друг друга»? Потому что в любви нет равенства. В ней нет науки, нет формулы. Одна сторона любит сильнее, чем другая. Отсюда боль.
— Нет.
— Нет?
— Я сказала, что мой отец любит мать, потому что моей матери больше двадцати лет как нет в живых.
Я оборачиваюсь к ней.
— Вот именно в этом беда любви, Луиза. Именно в этом. Любимые то и дело умирают от нас.
Мы идем дальше, решительно щелкая подошвами. Впереди уже виден парк. Я думаю о своей птице и о том, как она примет чудовищное лицемерие, совершенное мной против любви. Я беспокойно подбираю новую тему для беседы.
— Теперь я хочу вас спросить, — говорю я.
— Вы?
— Разве это не справедливо?
— Хорошо, — соглашается она, серьезно кивая головой.
— Вы всегда суете во все нос, когда убираете комнаты?
— Да.
— Зачем?
— Зачем? — она удивлена. — А вы бы не стали?
— Нет. Мне неприятно даже подумать о том, чтобы дотронуться до чужих вещей. И, наверно, мне просто не интересно. Но вы за столько лет, должно быть, открывали удивительные вещи.
— Ни один номер не был таким удивительным, как ваш.
— А! Потому-то я и дождался повторного визита?
— Да.
— Неужели все остальные действительно так скучны?
— Не то чтобы скучны, но не похожи на вас.
— Теперь мало кто похож на меня, — говорю я.
Когда мы подходим к Брайант-парку, я вытягиваю шею. Что, если ее здесь нет? Как искать одного отдельного голубя в целом Нью-Йорке? Я так мало знаю о том, как она проводит время, когда меня с ней нет. С кем летает, что видит.
— Почему Брайант-парк? — спрашивает Луиза. — В Нью-Йорке много парков с голубями, гораздо ближе.