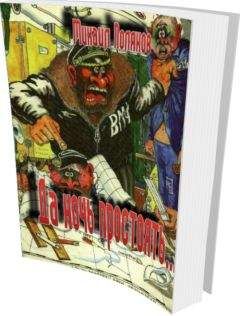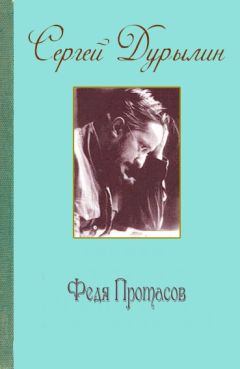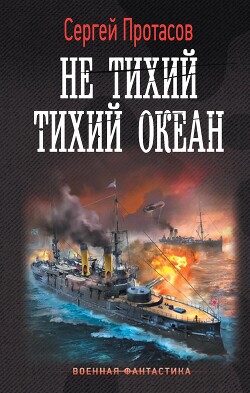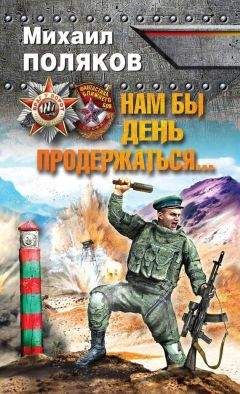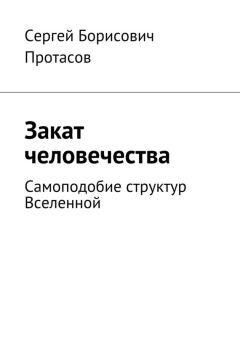Нам бы день простоять, да ночь продержаться! - Протасов Сергей Анатольевич
Между тем никакой определенности с общей ситуацией, в первую очередь из-за отсутствия сведений о положении дел, у Небогатова не было. Для решения этой первоочередной проблемы великий князь Михаил предложил отправить для связи с первой ударной группой и выяснения обстановки в районе Тагоэ какой-нибудь из эсминцев.
Согласовать дальнейшие действия сейчас было просто жизненно необходимо, так как от первоначальных планов ничего уже не осталось. Судя по тому факту, что светосигнальную связь с нашими силами, атакующими из залива Сагами, так и не удалось установить, там ситуация примерно та же. Они, вероятно, тоже столкнулись с непредвиденными трудностями, заметно осложнившими дело.
Дубасов с таким предложением был полностью согласен и приказал снять с дозоров и вызвать в гавань «Громящего» с «Видным» для пополнения запасов и последующей отправки их связными судами за Миуру. Но по независящим от них причинам миноносцы задержались и смогли встать на бункеровку только после полуночи. Такая задержка уже ставила под сомнение возможность их успешного прорыва через пролив Урага в южном направлении и благополучного возвращения назад до рассвета, учитывая необходимое время для поиска отряда Небогатова и обмена штабной корреспонденцией.
Командир «Видного» капитан второго ранга Бурнаховский, назначенный старшим в группе, отправил соответствующий запрос в штаб. Но в ответ нарвался на встречный запрос об обосновании задержки выполнения ответственного задания, которое никто не отменял. Там явно нервничали и торопили. Да и было от чего.
Не став углубляться и осложнять далее, бункеровку свернули, едва начав, иначе вообще не имело смысла трогаться с места. Это обстоятельство наложило серьезные ограничения на автономность посыльных. Но иного выбора не оставалось. В итоге эсминцы отправились в свой опасный рейс уже после завершения первого раунда ночных схваток с японскими миноносцами, в самый разгар нового приступа стрельбы где-то в районе Обицу, снова сопровождавшегося мощными световыми эффектами.
Японские атаки начались еще до наступления полной темноты. Кроме отбитых нападений эсминцев и вспомогательных крейсеров со стороны Ураги уже в глубоких сумерках, как и ожидалось, резко активизировалась японская мелюзга. Первую вылазку удачно сорвали прорыватели-эвакуаторы, так что массированного наплыва в самый неподходящий момент (когда еще только заканчивали втягиваться в открытый проход в боне) не получилось. Но спустя менее чем полчаса после их возвращения попытка повторилась.
Поодиночке и группами небольшие суда потянулись к северному краю бухты сначала вдоль побережья со стороны Чибы, а потом и со стороны Иокогамы и Токио, где, видимо, хотели спрятаться, но передумали, осознав, что за ними никто не гонится. Об их появлении своевременно сообщили береговые посты, после чего объявили боевую тревогу.
Наткнувшись на катерные дозоры, выдвинутые навстречу и сразу выдавшие каскады осветительных ракет, они не стали вилять, а наоборот – бросились вперед. Несмотря на серьезные одномоментные потери от дружного залпа с катеров сторожевыми минами [24] и сразу за этим хлестнувших в накатывавшие шеренги пулеметных очередей и мелких снарядов, они вяло огрызались, но упорно лезли дальше. А получив серьезную поддержку в виде нескольких каботажников, вооруженных легкими скорострельными пушками, обслуживаемыми хорошо обученными расчетами, довольно быстро отжали наших катерников сначала до Содегауры, а затем и до самого заграждения, где в дело вступили ждавшие этого батареи и пулеметные позиции, существенно перекрывавшие по огневой мощи «пукалки» вооруженных шлюпок.
Дальше была бойня! Ее участники позже рассказывали, что в мерцающем свете спускавшихся на парашютах люстр казалось, будто противник накатывался сплошной волной, совершенно игнорируя достаточно плотный артиллерийский и пулеметный огонь с катеров, а потом и с берега. Небольшие японские пароходы, шхуны, катера, боты, сайпаны, даже чуть ли не гребные рыбацкие посудины, в подавляющем своем большинстве даже не имевшие никакого вооружения, упорно ползли к бухте. На смену разбитым или подожженным в освещенной полосе из дыма, не успевавшего развеиваться, сразу появлялись другие, за ними следующие, во все возрастающих количествах.
На патрульных катерах в такой суматохе перезарядить орудия минами повторно уже даже не пытались. Несмотря на отработанный до автоматизма процесс, времени такая возня с полутораметровым боеприпасом, засовываемым в дула с целой охапкой пыжей, отнимала немало. Так что просто активно палили штатными боеприпасами во все чужое, что видели. А поскольку видели много чего такого, вскоре почти полностью израсходовали боезапас для пушек и пулеметов. В кожухах бурно кипела вода, воняло перегретым металлом и сгоревшей краской, вздувшейся и слезавшей с постоянно обливаемых стволов пластами. Начались заклинивания.
Дистанции сохранялись минимальные, так что в ответ тоже прилетало обильно. Из экипажей больше половины оказались убиты или ранены, из-за чего многим пришлось уйти за сети. Ломаная линия этих заграждений, связывавших островки притопленной портовой и речной мелочи, густо утыканной пушками и пулеметами, на некоторое время стала настоящим волноломом, о который разбивались накатывавшиеся волны самоубийц.
В столь бесперспективных фанатичных атаках трудно было уловить хоть тень смысла. С самого начала было ясно, что после потери внезапности не оставалось даже малейшего шанса продавить эту линию, а потом еще и преодолеть под огнем от полутора до двух с половиной миль простреливаемых вдоль и поперек вод внутренней акватории до стоянок больших кораблей. Но японцы лезли и лезли на убой.
И это была только первая за ту ночь «Банзай-атака». От висевших в небе осветительных ракет и множества горевших на плаву небольших судов над северным входом в бухту Кисарадзу стояло яркое зарево, очень хорошо видимое почти из любой точки залива, несмотря на штормовую хмарь, секущую ветренной сыростью. Его отсветы доставали даже до стоянки флота. Возможно, именно для этого все и затевалось. Не воспользоваться таким прекрасным ориентиром самураи просто не могли.
На всех кораблях в Кисарадзу с минуты на минуту ждали появления более опасных миноносцев и вспомогательных крейсеров. И они появились. Но самую первую их вылазку удалось сорвать еще до ее начала.
Когда «Громящий» и «Видный» еще на закате неожиданно ввязались во встречный бой с тремя японскими истребителями рядом с разрушенным и захваченным островом-фортом и «Донским», они первым делом отмигали фонарем о встрече с противником и его численности на сигнальный пост мыса Фуцу. Это сообщение разобрали и на остальных эсминцах, прикрывавших последние тяжелые корабли, еще только ждавшие своей очереди на проход сквозь открытые ворота в юго-западной части заграждения.
К этому времени 2-й, 4-й и 5-й минные отряды Тихоокеанского флота уже в полном составе собрались западнее мыса Фуджими, начав распределять между собой сектора несения ночного дозора на подступах к стоянке. Всего в миле восточнее них слабо мерцали задействованные на время прохода флота на стоянку тусклые огни, отмечавшие путь в Кисарадзу. Они периодически перекрывались темной тушей очередного броненосца или вспомогательного крейсера, проскальзывавшего между ними. В акватории бухты едва угадывались еще и огни копошившихся лоцманских катеров, разводивших всех на отведенные размеченные места.
Охранники от такого пренебрежения элементарными правилами скрытного базирования исходили холодным потом. Хотя прекрасно понимали, что выполнить все маневры на толком не освоенном, мелководном рейде совсем без освещения просто нереально, раз засветло добраться до гавани так и не успели. Это и вызвало неминуемую задержку с прохождением через раздвижные ворота, и заставляло теперь всех жечь нервы в напряженном ожидании.
Все так же штормило, «замыливая» тучами брызг стекла легких ограждений ходовых рубок. Такая погода вынуждала не только наблюдателей, но даже и вахтенных офицеров посменно топтаться на открытых участках мостиков, напряженно вглядываясь в горизонт. В относительно уютные внутренние помещения рубок (не отапливаемые, но хотя бы не продуваемые насквозь) заходили лишь ненадолго, чтоб чуток согреться постоянно приносимым туда с камбуза горячим чаем. Им же пытались одолеть накопившуюся усталость, начинавшую давить все сильнее.