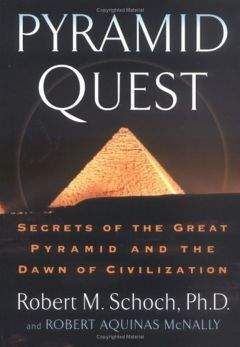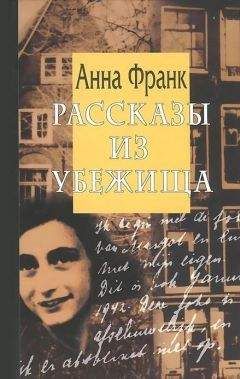Аннелиз - Гиллхэм Дэвид
Четвертое августа. Анна чувствует приближение этой даты. Для нее она — как явление призрака. Ровно два года с того дня, когда в их Убежище вошла Зеленая полиция. Два года с тех пор, как их арестовали как преступников и отправили на немецкую бойню. В конторе на Принсенграхт наступила тишина. Мип почти не разговаривает. Клейман ушел домой с кровоточащим желудком. Кюглер курит на кухне. Наверху, в Заднем Доме, прошлое затаилось призраком. Пим нервничает все больше. Легко раздражается. Резок с клиентами. И Анна в первый раз замечает, что он начал препираться с новоявленной госпожой Франк. Срывается из-за пустяков. Куда она дела его туфли? Где его табак? Зачем она так сильно крахмалит его рубашки? Мелкие ничтожные обвинения во искупление собственной вины — женитьбы на ней? Так это представляется Анне.
За завтраком Пим объявляет, что наилучшим решением вопроса о будущем Анны было бы поступление в колледж в Восточном Парке, где она могла бы получить диплом учителя.
— Я не хочу быть учителем, — отвечает на это Анна.
— А из тебя мог бы получиться блестящий учитель, — бодро заверяет ее Пим.
— Ты не слышишь, что я говорю?
— Я тебя слышу. Работая учителем, ты могла бы построить самостоятельную жизнь. — Он со звоном ставит чашку на блюдце. — Ты могла бы приносить реальную пользу. Поэтому в следующее полугодие тебе следует поднажать в школе. Получить оценки получше.
— Это Марго была одержима хорошей учебой. Не я.
— Анна, — Пим, смотрит на нее с обидой, как бы давая понять, что ей следует с большим уважением говорить о мертвых. Открыто сказать это он не решается.
— Учеба для меня ничего не значит. Она бесполезна.
— Бесполезна? Неужели я слышу это от тебя, Анна? Нет, она совсем не бесполезна! Она очень важна, — решительно возражает отец. У него дрожит подбородок, и он закуривает следующую сигарету. Она заметила, что он стал курить гораздо больше, днем и по ночам, где бы ни находился, оставляя за собой переполненные пепельницы. — Анна, ты должна понимать… — Он злится, это видно, но и озадачен: она стала совсем другой. Что стало с ребенком, которого он знал, с дочкой, умолявшей его послать ее в школу, томившейся по школе? — Ты должна понимать, что я все еще отвечаю за твое будущее. Ты должна доверить мне принимать за тебя такие решения.
Анна не спускает с него глаз.
— Я не могу притворяться той, кем была для тебя раньше. Я не могу быть такой, как ты. Не могу сидеть за столом, раскладывать бумаги по стопкам и притворяться самой себе, будто с нами ничего не случилось.
— Так вот чем я, по твоему мнению, занимаюсь? — спрашивает он. — Я притворяюсь?
— А разве не так? Этот город полон призраков. Он — кладбище, а я не могу жить на кладбище. Нельзя требовать от меня слишком многого. Здесь для меня нет места, — стоит на своем Анна. — Почему я не могу уехать в Америку?
Отец выдыхает воздух, который он держит в запасе на тот случай, когда она вновь об этом заговорит.
— Опять двадцать пять, — ворчит он и строго продолжает: — Анна! Это — твой дом! Твое место — здесь! Осенью вернешься в школу. Я отвечаю за твое образование. Этого хотела бы от тебя твоя мама.
И тут Дасса неожиданно предлагает другое решение: школа не так уж обязательна для девочек.
— Если она не хочет ходить в школу, пусть идет на работу. В ее возрасте я уже зарабатывала себе на жизнь. И никто не оплачивал мне дорогу в будущее, кроме меня самой.
Странно, думает Анна. Почему эта женщина помогает ей? Уж точно не от доброты душевной. Не от стремления ли избавиться от нее в соперничестве за Пима? Но, какова бы ни была причина ее вмешательства, Пима не желает оставаться между двух огней. Он резко встает.
— Извините, но я опаздываю в контору.
Дневная жара, Анна жмет на педали. В воздухе стоит запах канального мусора. В книжной лавке она застает господина Нусбаума. Он мрачен и поглощен телефонным разговором. Нусбаум устремил на нее темные глаза, но приветственного жеста не последовало. Галстук небрежно сдвинут, рубашка в пятнах пота. Воздух в помещении затхлый, пахнет гнилью, кошачьей мочой и старческой немощью. Она ищет утешения у Лоскутика, взяв на руки этот объемистый мешочек костей.
В этот момент господин Нусбаум кладет трубку. Сначала он смотрит в какую-то невидимую точку, все еще держа руку на аппарате.
— Господин Нусбаум! — окликает она его, прижимая кота к себе. — Что случилось?
Он поворачивается на голос. Лицо серое.
— Что вам сказал отец?
— Мне? О чем?
— О том, что происходит. У нас. На нашей новообретенной родине. — Тон его горек. И сух. — Что он сказал?
— Практически ничего, — отвечает Анна. — Он по-прежнему думает, что защищает меня от мерзостей реальной жизни.
— А вы этого больше не хотите? Чтобы от вас скрывали правду?
— Нет, не хочу, — говорит она, хотя внезапно в том усомнилась. Ее пугает выражение отчаяния на лице Нусбаума.
— Что ж, ладно. Тогда вы должны знать, — говорит господин Нусбаум. — Чем быстрее вы выберетесь из этой страны, тем лучше. Голландцы начали депортацию немцев. Даже немецких евреев.
Дверь в кабинет распахивается. Пим и Клейман поднимают головы от работы. В контору вихрем влетает Анна.
И смотрит на них с гневом.
— Как я могу вам верить, если вы скрываете от меня правду?
Отец чувствует удушье от наступившей тишины. Затем он вздыхает и поворачивается к господину Клейману, который с недоумением в глазах встречает его взгляд.
— Господин Клейман, вы не оставите нас на минуту?
Клейман не отвечает, пожав плечами, встает и мимо Анны проскальзывает к выходу.
— Закрой дверь, — просит Пим Анну. — Незачем оповещать весь мир о наших делах.
Ярость из взгляда Анны не уходит, но дверь она закрывает.
— Я знаю все! — заявляет она.
Пим напрягается. Поправляет ручку, лежащую на пресс-папье.
— Все? И что из этого следует?
— Когда вы собирались сообщить мне об этом?
Хмурый взгляд Пима набирает силу:
— Аннелиз!..
— Так вот чем занимались люди из бюро? Когда вы предполагали мне сказать? Когда они придут вышвырнуть нас отсюда?
На лице отца легкое замешательство. Он щурится.
— Не понимаю? Что значит вышвырнуть?
— Что это значит? Это значит загнать нас в вагоны для скота и депортировать обратно в Германию.
— Анна, я понятия не имею, о чем ты говоришь.
— Неужели, Пим? А вот господин Нусбаум уважает меня в достаточной степени, чтобы не скрывать происходящее.
И она повторяет все, что услышала в книжной лавке. Об «умном», по словам Нусбаума, решении правительства. В знак непризнания нюрнбергских расовых законов оно возвращает всем евреям, родившимся в Германии, гражданство этой страны, присвоив им определение «соотечественники противника». И эти соотечественники противника подлежат депортации в Германию.
— И не делай вид, Пим, будто для тебя это открытие!
К немалому удивлению дочери, Пим откидывается на спинку кресла и издает смешок, в котором чувствуется облегчение.
— Ах, Анна! И всего-то?
Его смешок приводит Анну в еще большую ярость. Она сжимает кулаки.
— Ты считаешь все это шуткой, Пим? Те чиновники, что тебя допрашивали, когда они вернуться — на этот раз на грузовиках?
— Анна, — говорит он, и в голосе его звучит прежняя уверенность, — ты торопишься с выводами. Дела с бюро касаются собственности. Собственности и денег. Никто не собирается нас депортировать.
— Значит, ты утверждаешь, что господин Нусбаум мне солгал?
— Насколько мне известно, горстку немецких фабричных рабочих выселяют из приграничных районов. Но это те люди, которые переехали туда из Германии во время войны. Это управленческие действия, они связаны с территориальными и деловыми вопросами. И их урегулируют, как любые другие деловые вопросы. Вот и всё. Нам ничего не грозит, дочка. Я еще раз повторяю: никто не собирается нас депортировать. Уж это я тебе обещаю.