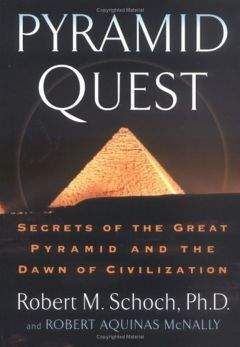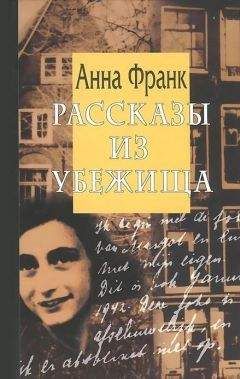Аннелиз - Гиллхэм Дэвид
— Здесь живут люди, которым мы не безразличны. Разве это ничего? Здесь живут люди, которым мы можем доверять.
— Вот в этом-то и дело. Я не знаю, кому могу здесь доверять.
— Тогда доверяй мне! — Это и просьба и мольба. — Я — твой отец. Если некому верить, верь мне!
Анна молчит, глядя на отца. Потом едва слышно:
— Амстердам — город призраков. Мне здесь больше нет места!
— Ты считаешь, что твое место в Америке? Это нелепо! А если и не так, то переехать в Америку хочет половина Европы. Но существуют квоты, строгие ограничения на иммиграцию.
— Ты имеешь в виду квоты на евреев?
— Я имею в виду на всех, — отвечает отец. — Да, на всех. А нам хорошо здесь. И здесь у меня есть обязательства. Наша жизнь здесь.
— Это твоя жизнь здесь! — Анна в ярости. — Твоя! А у меня, Пим? Какая здесь жизнь у меня?
— Жизнь с людьми, которые тебя любят, Анна. Этого тебе недостаточно? Твой дом там, где твоя семья!
— Моя семья умерла! — слышит она свой собственный крик.
— Я еще не умер! — с жаром говорит Пим. — Я еще не умер, Аннелиз! Я — твой отец, и я еще очень даже жив?
— Ты в этом уверен, Пим? Все говорят мне, что я выжила. Какое счастье! Анна Франк выжила! Слава Господу! Да только я этого не чувствую, Пим. Мне кажется, что все это — иллюзия жизни, а на самом деле я лежу в одной могиле с Марго!
В глазах отца паника.
— Анна!
— И в то же время я хочу всего, — заявляет она, сжимая кулаки. — Я хочу всего, что только можно иметь, и в Америке всё это есть. Вот почему я не могу здесь оставаться! Вот почему я должна уехать! С тобой или без тебя.
Пим сглатывает ком.
— Я не разрешу тебе!
— Думаешь, я прошу разрешения? Говоришь, у меня нет паспорта? Но какое это имеет значение? Вот разрешение, которое мне требуется, — и она закатывает свой рукав. — Вот что будет моим паспортом!
Она смотрит, как на лицо Пима наплывает тень, когда он видит татуировку на ее предплечье. Его выражение резко меняется. Кожа плотнее облегает череп. Губы складываются в прямую линию. Глаза западают и теряют цвет. Внезапно ей приходит в голову, что именно сейчас она видит его истинное лицо. То лицо, с которым он встречается наедине в зеркале.
— Аннеке! — шепчет он. Голос стал мягче. Он звучит будто в пустоте. — Ты должна понять, как нужна мне. Как безумно хочу я видеть тебя рядом. Я думал, что потерял вас обеих. Всех моих детей. Тебе трудно понять боль родителей. Боль отца, теряющего детей. Это страшная трагедия. И вот я нашел тебя. Я нашел тебя, и мое сердце нашло причину биться дальше. Я прошу тебя. Ты все еще очень молода. Тебе нужен отец. А отцу нужна дочь. Подумай об этом. Ты должна об этом подумать.
Анна отвечает на его взгляд. Она открывает рот, но не находит слов. Внезапно она чувствует, что ей не хватает воздуха, а стены придвинулись слишком близко. Она стремительно выходит — мимо отца, вон из квартиры! Из тюрьмы, в которую по вине прошлого превратилось ее настоящее. Она вырывается на улицу, и вольный воздух поглощает ее. Она бежит. Потом опускается на колени на клочке травы у тротуара. И остается здесь, вдыхая запахи приближающейся грозы. Над печными трубами прокатывается гром.
Так и будешь себя вести? — спрашивает Марго. Она опустилась на колени совсем рядом, на ней грязный сине-красный арестантский халат, который было велено надевать в штрафных бараках Вестерборка. Левая дужка очков сломана и скреплена проволокой. Анна глядит на нее, качая головой.
— Так ты тоже меня осуждаешь?
Никто не осуждает тебя, Анна.
— Врунья.
Ну и пусть, но если я такая, то потому только, что ты ведешь себя как эгоистка. И с каких это пор Анна Франк стала замечать, что другие о ней думают?
Гром прокатывается по закрытому тучами небу, по тротуару начинает молотить дождь. Анна его не чувствует. В лагере во время нескончаемых перекличек им часами приходилось стоять на плацу под проливным дождем. Эсэсовские охранники называли заключенных Stücke — штуками. Ничего человеческого — только штуки. А штуки дождя не замечают.
— Я хочу так много, Марго, — шепчет Анна. — Очень много. Такого хватило бы на десять жизней. Так как же я могу оставаться здесь? Здесь мне нет жизни. Ведь я хочу чего-то добиться. А не просто быть девочкой, которой удалось не умереть. Я хочу стать писателем! — Она впервые после возвращения произносит эти слова вслух — пусть и обращаясь к мертвой. Она настойчиво смотрит в глаза Марго, но мертвые не признают настойчивости. Глаза сестры превращаются в черные дыры.
Мама хотела бы, чтобы ты осталась, — говорит Марго. — Вспомни, как она о нас заботилась в Биркенау. Как жертвовала всем ради нас. А ты не можешь пожертвовать ради Пима такою малостью?
— Пожертвовать… — Анна произносит слово так, будто речь идет о ритульной жертве.
24. Соотечественники противника
Я люблю Голландию, я надеялась, что я, изгнанница, найду здесь свою родину.
— Я слышала, что Беп собирается замуж, — говорит Анна.
Мип за своим столом разбирает утреннюю почту.
— Да, — говорит она. — Это верно.
— Тебе, наверно, интересно, как я об этом узнала?
— Ну, не очень.
— Я не подслушивала, — лукавит Анна. — Просто господин Клейман говорит по телефону довольно громко.
— Понимаю.
— Мне-то Беп не пишет. А тебе она прямо сказала?
— Прислала записку, — отвечает Мип. — Извини, Анна, наверно, я должна была тебе сообщить. Но я сомневалась. Надеюсь, ты не обиделась?
— Из-за того, что меня на свадьбу не пригласили?
Мип пожимает плечами.
— Они не собираются громко ее отмечать. Просто зарегистрируются.
Мип говорит это легко, беззаботно, словно эта новость не выходит за рамки конторских пересудов.
— Жениха зовут Нимен, он электрик из Маастрихта. Там же пройдет церемония. Не так уж близко. Так что вряд ли кто-нибудь из нас туда поедет.
Анна молчит, глядя на лежащую перед ней стопку квитанций, которой ей надо заняться. Она желает Беп счастья. Хочет простить ее за то, что Беп была так холодна, когда Анна вернулась из Бельзена. Хочет снова воспринимать ее как сестренку, но ужасный вопрос не дает ей покоя.
— Ты думаешь, это возможно, Мип?
— О чем ты, Анна?
— Думаешь, это возможно, — повторяет она, — что Беп как-то причастна к предательству?
Мип прямо не отвечает. Она продолжает разбирать почту.
— Мип?
— Почему ты спрашиваешь меня, Анна? — Мип пронзает ее взглядом. — Откуда ты это взяла? Кто-то тебе сказал?
— Никто.
Как объяснить Мип, что если кто-то и навел ее на эту мысль, то только сама Беп, которая ударилась в панику при мысли, что полиция явилась ее допросить.
— Нет, никто, — повторяет она.
— Хорошо. Потому что любой, сказавший такое, солгал бы, — говорит Мип. — Это нелепая ложь. Беп, — продолжает она и трясет головой, словно это имя причиняет ей боль, — Беп никогда бы не причинила вреда тебе или твоей семье. Тебе особенно, Анна. Ты должна это знать. Беп неспособна на предательство. Абсолютно неспособна.
— Господин Кюглер рассказывал, что она уехала из-за меня. Что она не могла больше выносить мое присутствие.
Мип вспыхивает. Качает головой.
— Не хотела бы винить его. На долю господина Кюглера выпало очень много бед, но он не всегда понимает, когда лучше держать язык за зубами.
— Хочешь сказать, что он ошибался?
— Я говорю, Анна, — продолжает Мип, — я говорю, что он не знает до конца всей этой истории, как и ты. После войны у нее случилось что-то вроде нервного срыва. И не только из-за того, что произошло с тобой. Из-за того, что произошло со всеми нами. И с ней. Из-за болезни ее отца. Из-за ее разрыва с Бертусом. Случилось много несчастий. И она их не выдержала. Это была трагедия, — говорит Мип. — Одна из многих. Но в этом нет чьей-то вины.