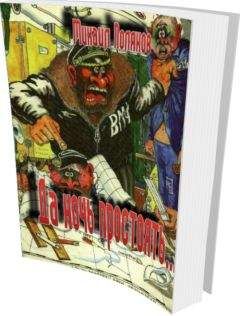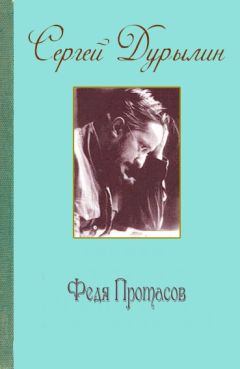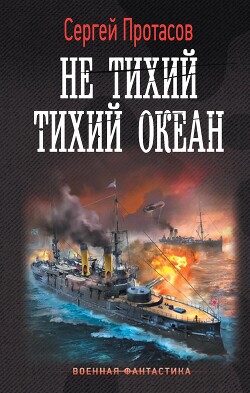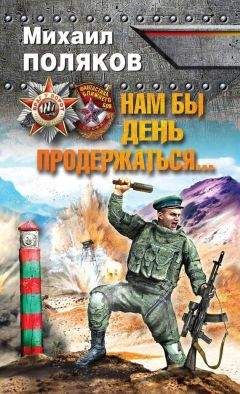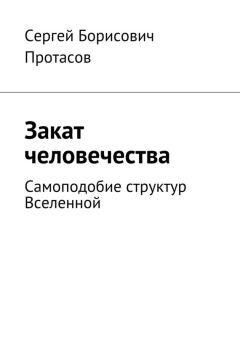Нам бы день простоять, да ночь продержаться! - Протасов Сергей Анатольевич
Противник сидел тихо. Это позволило успешно завалить минами фарватеры у Иокогамы и в самой Токийской бухте, развернуть уже отмобилизованные отряды ополчения и войска, расквартированные вблизи этих городов на оборонительных рубежах, где начали строительство укреплений. Сама же Йокосука считалась достаточно надежно прикрытой минными полями, капитальными береговыми сооружениями и полевыми батареями, чтобы продержаться под натиском противника даже неделю. Ее не слишком многочисленный гарнизон подкреплялся гардемаринами находившейся там школы флотских механиков и тыловыми службами флота. К тому же всего через пару дней он должен был многократно усилиться ополченцами, собираемыми сейчас по всему полуострову Миура. Оружие и снаряжение для них уже ждало своего часа в арсеналах базы.
Поскольку уровень тревоги внутри залива удалось резко снизить, появилась возможность вплотную заняться «гостями», обнаруженными за его пределами. Для связи с находившимися в море кораблями дозорных сил и их прикрытием к стоянке в порту Симода на западном берегу залива Сагами с рейда Курихама отправили вспомогательные крейсеры «Анегава-мару» и «Миябара-мару». Попутно они должны были провести поиск противника в южной части залива и у северного берега острова Осима, где предположительно укрываются от волн русские транспорты, ушедшие от побережья к полудню. Хотя шторм еще не стих, ждать улучшения погоды было нельзя. Требовалось как можно раньше обнаружить конвой, чтобы успеть организовать его разгром.
Давать передышку русским, прорвавшимся в Токийский залив, тоже не собирались. Через береговые сигнальные посты на все минные отряды, находившиеся в заливе, передали последние сведения о найденной стоянке и приказ: «Атаковать! Но только при благоприятной ситуации!» Категорически запрещались самоубийственные атаки. Силы нужно было сберечь для решительной схватки, которая еще впереди.
В результате в течение полутора часов японские миноносцы поотрядно вступали в бой с русскими дозорными судами в северной части бухты Кисарадзу, а затем снова с боем прорывались через разбросанные в южной части залива пока редкие русские дозоры в свою базу. Несмотря на явное превосходство пришлых в тоннах и калибрах, обошлось без серьезных повреждений, хотя потерь в экипажах избежать не удалось. Но жертвы были не напрасны. Миноносцы смогли торпедировать еще несколько русских кораблей уже в самой бухте.
Тот факт, что вероломный враг устилает дно на всем пути своего следования разбитыми судами, не мог не радовать. Однако во всем этом вторжении с самого начала было слишком много непонятного, необъяснимого. Причем по мере накопления информации его становилось только больше. И это порождало чувство неуверенности и неопределенности. Вот и сейчас едва наметившиеся оптимистичные планы разгрома снова стали сомнительными и шаткими.
Во второй половине дня пришли тревожные вести с восточного берега залива. В Кисарадзу с транспортов начали высаживать войска. Точных сведений об их численности не имелось, но передовые русские конные отряды уже продвинулись прибрежными дорогами почти до Яваты. Остановить их смог только выдвинутый навстречу гарнизон со станции Сога. Русские встали в оборону, захватив мосты через реки. Судя по всему, для обеспечения предстоящей переправы главных сил.
Отмечались и вылазки малых судов, обследовавших побережье в районе Ясаки и даже Чибы. Возможно, они вели разведку мест для новой высадки, уже гораздо более масштабной и ближе к Токио, рассчитывая перебросить пехоту с легким вооружением и горными пушками по воде, а тяжелую артиллерию выгрузить в уже занятом ими порту и подтянуть потом по дорогам, используя захваченные переправы. Так будет быстрее и проще, чем брать штурмом Йокосуку с Иокогамой, а потом еще и Токийскую бухту, к тому же не достаточно глубоководную для океанских пароходов.
Такие новости вызвали серьезную озабоченность у командования крепости Токийского залива. Создавалось впечатление, что противник намерен повторить свой трюк с захватом поездов, сработавший на Хоккайдо. От Чибы до центральных районов Токио можно было добраться по железнодорожной линии Собу [21] за считаные часы. Ее конечная станция Рёгокубоки располагается всего в двух километрах от императорского дворца. Фактически остается только перемахнуть через реку Сумида и пройти несколько кварталов по прямой. А никакой обороны на этом направлении до сих пор нет. Абсолютно все боеспособное на данный момент развернуто и даже выдвинуто в сторону полуострова Миура.
Часть поездов с войсками, уже отправленных к Йокосуке, развернули в Иокогаме. Предполагалось прогнать их до конечной столичной станции Симбаси [22]. Там, прямо на привокзальной площади, пересадить солдат в трамваи, которые для этих целей решили мобилизовать у всех трех столичных трамвайных компаний [23]. Так можно было максимально быстро перевезти их на другой берег реки Сумида, где снова пересадить уже на линию Собу.
Одновременно с каменоломен юго-восточных пригородов начали выводить подвижной состав, чтобы этими грузовыми эшелонами сплошным потоком доставлять пехоту в Тибу, отгоняя разгрузившиеся поезда обратно в карьеры за Сакурой. А южнее Тибы, на рубеже, уже занятом гарнизоном из Соги, с помощью ополченцев с восточного берега полуострова Босо, только что доставленных эшелоном, подошедшим из Охары, спешно начинали создавать восточную линию обороны.
Чтобы разгрузить западную часть линии Собу, все эшелоны, шедшие с востока от станции Теси, задержали в Сакуре. Она находилась в половине дневного перехода от побережья, так что считалась недоступной для противника. Таким способом, помимо скорейшей переброски своих войск, лишали русских потенциальной возможности воспользоваться трофейным железнодорожным транспортом.
От мысли уничтожить мосты через Эдо и рельсовые пути восточнее этой реки пока отказались. И без того начатое срочное изъятие военными трамваев с городских улиц вызвало немалую панику в столице и неудовольствие гражданской администрации города. Однако подготовить все для это сочли необходимым.
А в Йокосуке с раннего утра шла авральная приемка на борт мин из минного арсенала всеми судами, способными ставить заграждения. Загрузившись, они покидали порт, а выполнив работу, снова возвращались к минной пристани за новой партией. Вернувшиеся миноносцы и истребители также принимали мины на палубы.
До четырех часов дня вспомогательными крейсерами и крепостными минными заградителями было выставлено более четырехсот мин в две линии параллельно основному заграждению между мысами Томозаки и Миогане. Миноносцы и истребители совершили по один-два рейса от Йокосуки до северной кромки этого заграждения, дополнительно выставив 29 банок по четыре – шесть мин. Большей частью заваливали «рогатой смертью» полосу прорыва противника, точно определенную по обнаруженному еще ночью шлейфу обломков и тонущих судов.
Настойчивые требования армейского командования сосредоточить усилия флота на минировании внутренней акватории залива флотское руководство исполнять не спешило. Адмиралы надеялись еще дать маневренный бой противнику, когда тот попытается осуществить новую высадку. А воевать в теснине мелководного залива, да еще и на своих же минных полях – изощренная форма самоубийства. К тому же в данный момент они считали приоритетным не допустить объединения русских группировок. Не собирались они отменять и уже намеченную атаку вражеского отряда в заливе Сагами, подготовка к которой шла полным ходом.
Закончив с усилением заграждений, минные отряды собрались в бухте Канега, где объединились со вспомогательными крейсерами «Анегава-мару» и «Миябара-мару», вернувшимися с разведки в восточных и юго-восточных водах, и «Касаги-мару II», «Синано-мару II» и «Америка-мару II», также закончившими дополнительное минирование пролива Урага.
Здесь крейсеры и миноносцы получили приказ адмирала Иноуэ атаковать русский конвой, о появлении которого у северной оконечности острова Осима сообщили наблюдательные посты. Он появился там в самый разгар боев у Тагоэ и в проливе Урага. Судя по всему, это был оперативный резерв, который противник предполагал ввести в бой на направлении наметившегося успеха.