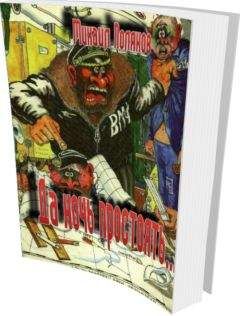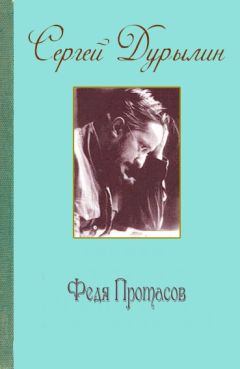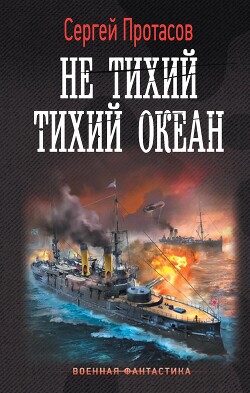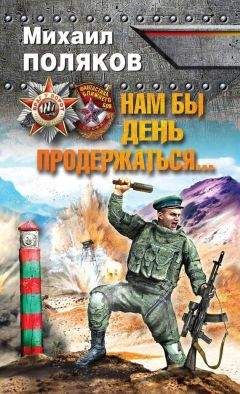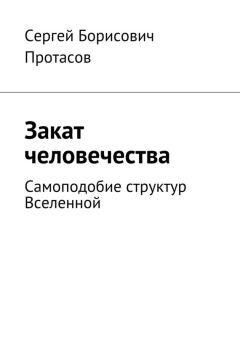Нам бы день простоять, да ночь продержаться! - Протасов Сергей Анатольевич
Правда, вызывал подозрение форт, чьи практически не пострадавшие мощные каменные сооружения и даже частью уцелевшие бревенчатые противошрапнельные навесы над орудийными двориками и постами наблюдения сейчас было прекрасно видно. Но с ним в самое ближайшее время все должны были прояснить десантники, уже заполнявшие палубы в готовности хлынуть на причалы.
Гораздо сильнее беспокоили сопки на мысе Хакодзакитё, что высились слева, совсем рядом, так же увенчанные капитальными береговыми укреплениями. Сейчас их густо затянуло гарью и пылью, и они все реже проявляли признаки жизни. Но яркие проблески выстрелов из чего-то мощного нет-нет да еще вставали круто вверх в буро-серых клубах. Это очень хорошо «замурованные» осакские гаубицы пытались отбиваться от главных сил, но что творится у них прямо под боком (считай под задом), похоже, не видели.
С появлением ополовиненного второго эшелона десанта «Украинцы» и оба их опекуна потянулись к выходу из гавани. Задерживаться в порту под ежеминутной угрозой нового усиления обстрела миноносцам было противопоказано. Поэтому, едва высадив свои войска и убедившись, что о них теперь есть кому позаботиться, оба (точнее полтора) минных отряда двинулись обратно в залив. С их мостиков коротко отмигали ратьеры, передавая эстафету прикрытия пехоты на берегу вспомогательным крейсерам, к тому времени уже подбиравшим подходящие места для швартовки.
Покинув торговую гавань тем же, но уже сравнительно безопасным маршрутом, эсминцы разминулись на входных створах с парой пароходов-крейсеров, возившихся с буксирным концом, а потом и с бронепалубниками Егорьева. Все крейсеры стреляли на оба борта по мысу Нацушимато и батареям на западной окраине военной гавани. Продолжая движение на север, миноносники огляделись вокруг.
Все изменилось. Благодаря отступившему горизонту, впереди, милях в пяти, не меньше, теперь хорошо различались европейские кварталы Иокогамы, раскинувшиеся на холмах северного берега бухты Негучи. А правее, в глубине залива, над тонкой белесой полоской штормовой мглы серели крапинки парусов кого-то мелкого, но не в меру любопытного. На северо-востоке, в двадцати пяти кабельтовых густо дышали угольным дымом и медленно ползли почти строго на юг две короткие, сомкнутые колонны броненосцев Чухнина и Йессена, окруженные всплесками, но не имевшие никаких видимых повреждений. На правом траверзе вдали едва угадывался дымящий трубами силуэт «Донского», а чуть ближе и южнее торчал горб недостроенного второго острова-форта. За кормой на юге и юго-востоке, закрытые пылевыми тучами от многочисленных разрывов, едва просматривались позиции японских батарей центральной и восточной части Йокосукского укрепленного района, стрелявших уже совсем редко. Остров Сару за всем этим вообще не угадывался. Зато в пасмурной мгле левее и еще дальше, где находился мыс Каннон и дымно-пылевой шлейф уже успевал растрепать рвущийся с океана ветер, тоже сверкали вспышки выстрелов. Но из-за большой дальности стрельба оттуда была явно бесполезной. Хотя и напрягала. Особенно тем, что дневная разведка не выявила в этом районе позиций, способных так далеко завернуть свое жало на запад. Опять сюрприз!
Уходящие эсминцы и готовившиеся высаживать пехоту вспомогательные крейсеры пытались при помощи световых сигналов связаться с нашими полками, которые должны были наступать от Дзуси, но на всех склонах заросших лесом гор, видимых с воды от восточного берега полуострова Миура, не было ни одного ответного проблеска. Вообще никакого шевеления там не видели. Только район командных возвышенностей северо-западнее порта, примерно в двух милях от входа в бухту, резко выделялся на общем фоне. Там серые шапки шрапнельных разрывов и бурые дымные султаны на склонах обильно пачкали осенние пейзажи. Явно шел жаркий бой. Однако понять, где наши, а где японцы, никакой возможности не имелось.
Когда уже перестали надеяться получить ответ, откуда-то из этих разрывов замигал фонарь. Но едва начавшись, сигнализация прекратилась. Разобрать то, что успели увидеть, не удалось. Только после довольно продолжительного совещания сигнальщики предположили, что с берега передали «нуждаемся», но с ошибками и без последней буквы. А через какое-то время оттуда же взлетели, одна за одной, две сигнальные ракеты белого дыма. В своде сигналов такого не было, и что это могло означать, никто сказать не мог.
Вскоре с мачты «Амура» сообщили, что на видимом из гавани отрезке тракта, уходящем из Йокосуки на северо-запад вдоль железной дороги, на какое-то время показалась пехотная колонна. Но она быстро скрылась за строениями станции Таура, и русские это или японцы – разглядеть за дымом просто не успели. Стрелять по ней не стали, опасаясь накрыть своих. О чем-то же пытались совсем недавно сигналить с берега.
А ситуация начала меняться. В разгар высадки 1-го батальона 7-го Восточно-Сибирского пехотного полка с «Амура» и «Сунгари» японцы возобновили обстрел гавани. Началось все с пулеметов, «прорезавшихся» со стороны форта Нацушимато. Это было довольно далеко, а потому не столь опасно. Но совсем скоро самураи ввели в дело и полевые батареи, похоже, развернутые за сопками взамен подавленных. Они явно стояли на заранее подготовленных позициях, оборудованных хорошей связью, и имели корректировщиков. Накрыли сразу. Да и в дальнейшем били точно, отслеживая все наши движения и оставаясь совершенно недоступными для морских пушек любых калибров.
Едва начавшаяся переправка на берег пехоты шла теперь под градом смертоносного металла, все гуще сыпавшегося со всех сторон, что вызывало большие потери еще на палубах и трапах, перекинутых на причалы. Едва успевали оттаскивать раненых и убитых, из-за чего темпы высадки резко упали. К тому же решимости ломиться в лабиринты портовой застройки, за которыми маячили кварталы с ярко выраженной чужой архитектурой, это никому не добавляло.
Одновременно резко усилились атаки, как со стороны военной гавани, так и с юга, и даже с запада. А попытка доставить войска с двух отставших вспомогательных крейсеров, все еще стоявших у Нацушимото, провалилась. Отправленная на весельных шлюпках с «Риона» и «Кубани» 1-я рота 2-го батальона «сибиряков» так и не смогла войти в бухту из-за плотного перекрестного пулеметного огня с обоих берегов. Причем эти пулеметы были не видны корабельным артиллеристам, а из раскачивавшихся шлюпок заставить их молчать – нечего было и мечтать.
Видя невозможность прорваться в гавань на веслах, командир роты капитан Постников решил высадиться на входе в порт, используя для этого причалы рыбацкого селения, обнаруженные в глубине бухты Кинагава. Но едва достигли тех пристаней, почти в самой вершине далеко вдававшейся узкой заводи, и рванули от них по берегу в обе стороны, чтобы зачистить зловредные пулеметные позиции, угодили под залповый ружейный огонь.
Когда огляделись, поняли, что уперлись в хорошо оборудованные полевые позиции не менее двух полнокровных рот, засевших на прибрежных возвышенностях выше хлипких, едва ли не картонных домишек, жавшихся к самой воде. Вскоре оттуда зачастил еще один пулемет, лишив возможности не только атаковать намеченные первоочередные цели, но даже и предпринять обходной маневр в южном направлении для соединения с войсками в порту. А подавить эту хитрую оборону с моря не давали возвышенности. Открытой оставалась только дорога назад, к шлюпкам.
В отличие от русских, оказавшихся теперь зажатыми на двух небольших участках берега, японцы по-прежнему могли свободно маневрировать силами и скрытно подтягивать войска по дорогам и тропам. Это невозможно было отследить в лесном массиве, покрывавшем гряду холмов, тянувшихся вдоль всего западного берега бухты Нагаура, и в плотной застройке городских окраин, а также станционных и портовых складов. Благодаря этому, они очень быстро получали большое численное преимущество на едва намечавшихся направлениях атак высаживающихся, легко отражая их. При этом огонь полевой артиллерии и пулеметов все время усиливался, несмотря на частую ответную стрельбу с палуб как прорвавшихся, так и застрявших на входе кораблей.