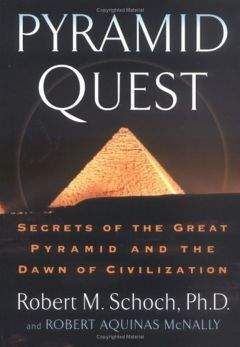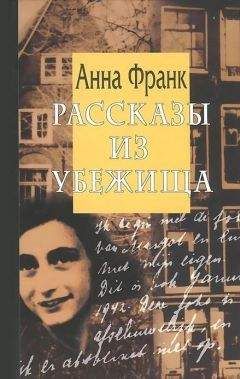Аннелиз - Гиллхэм Дэвид
— Скажи, — начинает господин Нусбаум. На нем два свитера — он объясняет, что не может согреться и под сотней свитеров, но два — это лучше, чем ни одного. — Скажи, это правда? Твой папа утверждает, что у тебя талант к сочинительству.
Анна поднимает голову от тяжелого тома:
— Правда?
— О да. Он в самом деле в этом убежден.
Сглотнув ком в горле, Анна возвращается к коробке разномастных книжек, которую разбирала.
— Когда-то и я так думала, — говорит она.
— И что же заставило тебя изменить мнение?
Она смотрит в лицо господина Нусбаума. Он что, шутит? Он любит исподтишка пошутить. Но на сей раз в его лице нет ни малейшей иронии, лишь скромное любопытство.
— Я вела дневник. Когда мы скрывались. Хотела написать книгу после войны. Может, роман или что-то в этом роде. Каково было нам. Евреям, — говорит она. — Но когда нас арестовали, все пропало.
— А потом? — спросил он.
— Что — потом?
— После этого ты совсем перестала писать?
— Нет, — признается она.
— Нет.
— Нет, я все еще пишу, — отвечает она. — Но это не то.
— Понимаю, — он кивает. Задумчиво затягивается сигарой и кладет ее на край прилавка так, что горящий кончик оказывается висящим в воздухе: на лакированной поверхности прилавка уже образовалось черное пятно от множества слившихся вместе маленьких ожогов. — А почему?
— Потому, — отвечает Анна, — что все это больше ничего не значит.
— Нет? Но это должно что-то значить, Анна, — говорит господин Нусбаум. — А иначе зачем ты это делаешь?
— Не знаю, — признается она и отворачивается. — Должно быть, — начинает она, а потом качает головой, точно отгоняя неприятные мысли. — Должно быть, я просто не могу не писать, — признается она, доставая из коробки очередную книгу.
— Хм. Так бы ответил настоящий писатель.
— Нам правда нужно это обсуждать, господин Нусбаум?
— Вовсе нет. Не нужно, если ты не хочешь. — Он раскрывает толстую бухгалтерскую книгу, лежащую на столе. — Вот только…
Стук сердца. Анна поднимает голову:
— Что — только?
— Вот только мне интересно, — он бросает на нее быстрый, но внимательный взгляд и погружается в содержимое бухгалтерской книги, — отчего ты считаешь, что настоящее не так же важно, как прошлое. Это ведь все равно твоя история, разве нет?
Анна пристально смотрит на него.
— Не хочешь, можешь не отвечать. Просто подумай. — И он берет тлеющую сигару с краешка прилавка.
— Пим говорил, что у вас в Германии было издательство, — возможно, она вспоминает об этом лишь для того, чтобы избежать дальнейших расспросов про ее склонность к писательству, но на лицо Нусбаума наползает туча.
— Да, было, — отвечает он. — Еще отцовское. Небольшое, интеллектуально-эзотерическое, но, когда он умер, я решил расширить список авторов. Герман Кестен, Йозеф Рот, Андре Бретон. Да, замечательные были времена.
— А потом пришли нацисты, — говорит Анна.
Его голос становится совсем тихим.
— Потом да, пришли нацисты. — Он едва заметно пожимает плечами. — Я пытался начать заново в других местах. Пошел по исхоженному пути литературных изгнанников: Париж, потом Амстердам. В то время здесь было целое созвездие немецких издателей, и я очень надеялся, что у меня получится. Но деньги закончились, и… жизнь стала непростой. Мой волшебный мир перестал существовать.
Это Анне понятно. Пусть господин Нусбаум намного старше, но она чувствует в нем родственную душу. Преданный литературе человек, лишившийся всего.
На следующий день, явившись в контору, Анна узнает, что Пим снова вызвал в кабинет госпожу Цукерт с блокнотом стенографистки.
— Тебя это не тревожит? — спрашивает Анна у Мип.
— Что меня не тревожит?
— Что она слишком много на себя берет.
Мип качает головой:
— Никто не берет на себя слишком много, Анна.
В четыре часа господин Кюглер идет на кухню выпить чаю, как делает всякий раз в это время. Анна выскальзывает из-за стола.
— Пойду попью воды, — говорит она Мип и тут же выходит. В коридоре она слышит доносящийся из кабинета отца смех, а потом — непринужденную, судя по тону, беседу. Что еще хуже — они говорят по-немецки. По-немецки! На языке своих палачей.
На кухне она застает Кюглера, одиноко глазеющего на закипающий на плитке чайник. Вид у него, как все чаще бывает, отсутствующий. Анна обратила внимание, что в последнее время он стал подолгу бесцельно смотреть в пустоту, сидя за столом. Потом он мог приходить в себя, снова становясь старым добрым Кюглером, человеком, знающим ответ на любой вопрос. Но она понимает: внутри у него уже не осталось никаких ответов.
Скользнув на кухню, она берет из сушилки стакан. Кюглер поднимает глаза, но какое-то время кажется, что он ее не видит. Но потом вздыхает и без особой убежденности спрашивает:
— Как сегодня Анна?
— Как я? — спрашивает она тоном, призванным означать: «Разве это не ясно?»
— Школа, я имею в виду. Как в этом году учеба?
Но Анна не отвечает. Она идет к раковине и открывает кран: в стакан льется вода.
— Кажется, она очень умелый работник, — замечает Анна.
— Прости?
— Госпожа Цукерт.
— А, да, — соглашается он. — Весьма.
— Наверное, у нее большой опыт.
— Так и есть, — подтверждает несколько отстраненным тоном. — Десять лет помощником бухгалтера в аудиторской фирме. Еще до войны она время от времени помогала господину Клейману.
— А что, — не унимается Анна, — стало с ее мужем?
Смущение.
— С мужем?
— Да. Что стало с господином Цукертом? Он жив? Умер?
Кюглер встревожен.
— Тебя это не должно касаться, Анна.
— Не должно касаться? Вы так думаете, господин Кюглер? А я так не думаю. — Сделав глоток воды, она ставит стакан на стол.
— Анна, — выдыхает Кюглер, — если у тебя есть вопросы, задай их своему отцу.
— Мне все так говорят, но отец молчит. Послушать только, они смеются. Смеются! — говорит она таким тоном, точно застигла их на месте преступления.
Кюглер медлит. Кажется, он подавлен. Наконец, откашливается и говорит бесцветным голосом, обращаясь к стене:
— Как я понял, — начинает он, — до прихода нацистов ее муж работал в Германии. Он был евреем, но родился в Голландии. Так что когда после прихода Гитлера они приехали в Амстердам, она подала документы и получила гражданство. Брак оказался неудачным. — Он пожал плечами. — Они развелись, и он уехал в Канаду. Или на Кубу, я не запомнил.
Анна молчит. Но в наступившей тишине Кюглер внезапно темнеет лицом — даже при ярком солнечном свете, льющемся в окно кухни. Когда чайник начинает свистеть, он выключает горелку.
— Знаешь, Анна, я кое-что заметил насчет тебя, — начинает он. — Надеюсь, ты меня простишь, но я должен это сказать. Ты часто пользуешься тем, что с тобой сделали нацисты, как оружием. Словно боль и страшное горе, которое ты перенесла, дали тебе неоспоримую правоту, — говорит он. — Конечно, то, что рассказывал твой отец после возвращения… это было ужасно. И я не пытаюсь сделать вид, что хорошо представляю, каково тебе пришлось. Могу только сказать, что нелегко пришлось всем. СС отправлял нас с Клейманом из одной тюрьмы в другую. Сперва Амстелвеенсвег. Потом Ветерингшанс, где нас много дней держали в камере с приговоренными к смерти. И наконец, Богом забытая дыра, Лёсдерхейде, — уныло добавляет он, точно снова переносится в мыслях за колючую проволоку. — Тяжелая работа. Почти без еды. Перекличка под ледяным дождем. Уверен: Клейман бы не выжил, если бы не Красный Крест. — Внезапно смутившись, он бросает на нее быстрый взгляд. — Я знаю, ты, должно быть, думаешь: «Бедняжка Кюглер считает, что пострадал, хотя о том, что такое настоящее страдание, понятия не имеет». И возможно, ты права. Может, мне и впрямь трудно представить, какое варварство творили с твоим народом. Вероятно, Амерсфорт и ему подобные места не были тем адом, куда отправляли евреев. Но я готов поклясться, что ни одно из них не было курортом. Я видел, как в Амерсфорте умирали люди. Хорошие люди, которым бы дома быть, с женой и детишками, а они падали мертвыми, не выпуская из рук лопат. Или того хуже. Их забивали до смерти на моих глазах. А послушать тебя — так никто, кроме тебя, не знает, что такое смерть. Потому-то Беп и ушла.