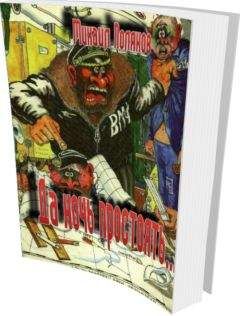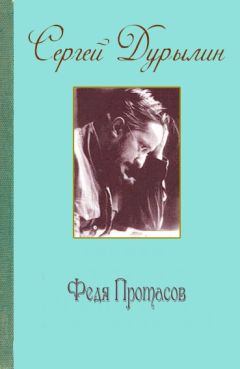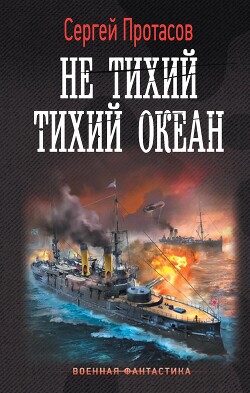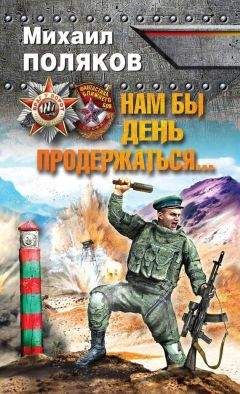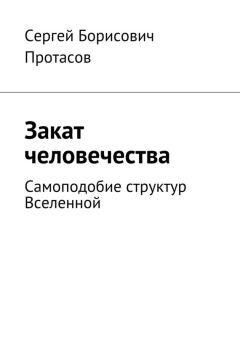Нам бы день простоять, да ночь продержаться! - Протасов Сергей Анатольевич
Но как поставить под разгрузку остальных?!
В полном бессилии пароходы, броненосцы, миноносцы и канонерка маневрировали в непосредственной близости от Тагоэ, порою теряя из видимости берег. Все командование высадочных сил оказалось на еще не разгружавшихся судах. Слушали стрельбу и ждали. В первую очередь – милости от погоды. Но постепенно начинали понимать, что скорее дождутся японской атаки. Постоянно запрашивали транспорты и уже развернутые посты связи на входных мысах бухты, ответы получая далеко не каждый раз. Погода!!!
А на берегу…
До полудня с «Тамбова» с большими трудностями удалось переправить всех людей, а к ночи и значительную часть снабжения. Еще до того, как пароход окончательно прикончило явно не собиравшимся стихать штормом, на сушу перебрался и его экипаж. При этом был разбит только один баркас, а потерь в людях вообще удалось избежать, хотя все и вымокли до нитки.
С транспортов, что все же вошли в бухту, за первую половину дня тоже высадили всех. Следом за пехотой с «Ораниенбаума», «Ярославля», «Ревеля» и «Сестрорецка» начали максимально поспешно свозить артиллерию, боеприпасы и прочее снабжение. У пристани и на восточной окраине Тагоэ развернули сразу два госпиталя, так как раненых оказалось очень много. После оказания первой помощи старались переправлять всех пострадавших обратно на суда. Вокруг деревни и отбитой у японцев станции Дзуси организовывали временную оборону с пулеметными и артиллерийскими засадными позициями. Железнодорожное полотно разбирали, растаскивая рельсы и шпалы, по возможности используя их на строительстве укреплений.
Хотя флот, лишь временами появлявшийся в зоне видимости, никак не мог помочь десантникам, организовывались укрепленные основные и резервные наблюдательно-корректировочные посты на господствующих высотах, оснащенные сигнальными фонарями, гелиографами и комплектами сигнальных ракет. Так сказать, на перспективу. Весьма неопределенную, стоит заметить. Очень надеялись, что до возобновления высадки смогут все это удержать. Тревожно было.
Пехота, теперь постоянно пополнявшаяся из трюмов, усилила нажим и продолжила движение на восток. Разведка внезапной атакой сбила японские заслоны, прикрывавшие дорогу на Йокосуку, что позволило обойти японские батареи еще и с тыла. Оказалось, что там у них вообще не было никакого прикрытия, и их быстро взяли штурмом, приведя к полному молчанию.
Это стало переломным моментом. С подавлением полевой артиллерии все окрестности Тагоэ и железнодорожная станция Дзуси быстро перешли под контроль 117-го Ярославского и Цугарского полков, продолжавших выгрузку. Об этом пытались известить начальство на кораблях, чтобы запросить подкреплений для развития успеха, но так и не поняли, удалось ли.
А останавливаться, особенно теперь, было никак нельзя. Японцы активно и аргументированно возражали. Из штабов обоих полков сформировали временный штаб обороны, сообща соображая, как быть дальше.
Начиная уже с девяти часов утра, начались атаки со стороны Йокосуки. Первую отбили довольно легко. При этом второй батальон «ярославцев» сразу контратаковал и на плечах откатывавшегося противника смог продвинуться вдоль дороги по долине между возвышенностей в направлении японской базы больше чем на версту. После жаркого боя у западной подошвы перевала они окончательно добили пытавшихся встать в оборону японцев и заняли господствующие высоты севернее железной дороги и тракта на Йокосуку, а также селение Токатори, расположенное за ними. Там нашли мобилизационные склады ополчения, очень пригодившиеся уже этой ночью.
С сопок вокруг Токатори, если смотреть на восток, на границе видимости, где тяжелые клочковатые тучи почти сливались с темной водой Токийского залива, теперь была видна сама Йокосука, до бухт которой оставалось не более пяти-шести верст, а может и меньше. Просматривалась и железнодорожная станция Таура. Она была ближе, всего в трех верстах. Сквозь хмарь видели также мыс Нацушимато, на котором размещались крупнокалиберные береговые батареи. Их позиции хорошо видели даже без бинокля. Открытые со стороны берега орудийные дворики и заглубленные в скалы сооружения ниже их, отделанные кирпичом и камнем, резко выделялись на фоне густой растительности, покрывавшей остальной берег севернее Йокосуки. Южнее высились крутые и высокие лесистые горы, которые были даже выше, чем здесь. Севернее сопки чуть понижались, но выпирали более плотными грядами, уходя за пределы видимости.
А если оглянуться на запад, внизу на склонах рдели черепицей крыши Дзуси, между которыми поблескивали мокрые рельсы чугунки, нырявшей за склон очередной горушки в северном направлении. Еще ниже уже не так ярко теснились бедные домишки Тагоэ, жавшиеся к одноименной реке. Дальше к заливу Сагами серело взлохмаченное ветром зеркало бухты, в которую она впадала, с угловатыми глыбами пароходов в ней. А в море почти расплывались на грани восприятия силуэты остальных кораблей и судов отряда. Сквозь воду, все еще вбиваемую штормовым ветром мелкой, нудной взвесью в осенний лес и все остальное, многого было не разглядеть, но и так панорама завораживала.
Продвинуться столь скромными силами настолько далеко в первые же часы пребывания на чужом берегу никто не рассчитывал. Это было неожиданно, поскольку к тому времени опрос пленных уже показал, что нас в Токийском заливе ждали! Но, судя по всему, ждали именно там, по другую сторону полуострова Миура. А здесь русской пехоте пока попались только полурота территориальных войск местного гарнизона, да две горные батареи из резервов гарнизона Йокосуки, спешно развернутых уже после того, как отряд начал мозолить глаза наблюдателям с чужих берегов.
Это воинство японцы успели усилить двумя ротами из столичного полицейского полка, расквартированными на тот момент в Йокосуке, и полутора тысячами ополченцев из Токатори. Группировка получилась довольно многочисленной, но не имевшей единого командования. Но это было явно еще не все. Регулярные армейские части Токийского гарнизона, который, как оказалось, подняли по тревоге еще прошлой ночью, наверняка уже где-то на подходе.
Учитывая полученные сведения и важность занятых позиций, передовой батальон сразу начал основательно укрепляться, отправив гонцов верхами на трофейных лошадях в штаб в Тагоэ за подкреплениями.
Едва там узнали о результатах контратаки, командир Ярославского полка полковник Сулима-Самойло, вместо уже почти начатого наступления на север вдоль железной дороги, где предполагалось занять удобные позиции на выходе в долину реки Намери, отдал приказ выдвинуться на восток через перевалы всеми своими батальонами.
А чтобы как можно скорее установить связь с главными силами экспедиционного корпуса, которые по плану должны вскоре появиться в поле зрения со стороны Токийского залива, то есть по ту сторону узкой полоски суши, именуемой полуостровом Миура, в Токатори отправили сразу две сигнальные группы.
Возвышенности вокруг этого селения господствовали над окружающей местностью, позволяя одновременно видеть и Токийский залив и Сагамский, поэтому оттуда предполагалось координировать совместные действия, в том числе и по радио. Для чего из состава роты связи выделили одну станцию, которую сразу после выгрузки начали переправлять за перевал. Однако из-за нехватки транспорта часть ее имущества так и осталась в Тагоэ.
Другую станцию установили при штабе, развернули по всем правилам, но воспользоваться не смогли. Сначала не дала погода, а потом уже японцы. В ночных боях полегли почти все связисты, а оборудование оказалось попорченным. Третья оставалась на аварийном «Тамбове» и на берег удалось доставить только отдельные ее части (и те в итоге достались японцам).
Для развития неожиданного успеха к «ярославцам» выдвинули также дополнительные подкрепления и артиллерию. По сути, почти все, что было. Спешили, пока на главном направлении противник еще не пришел в себя. В итоге кроме сильного ударного кулака на востоке, хоть какая-то оборона осталась лишь на севере. А с юга Тагоэ огородили только редкой цепью постов да секретов. И те ставили лишь на дорогах и тропах. Считалось, что с этой стороны атаки ждать пока не от кого.