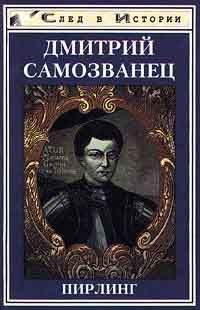Господин Тарановский (СИ) - Шимохин Дмитрий
Следующие сутки лагерь гудел, как переполненный улей. Уйгуры разбивали свои шатры рядом с палатками моих солдат, каторжане делились табаком с новыми союзниками, пытаясь жестами объяснить устройство винтовок.
Я сидел в штабной палатке, склонившись над картами, когда полог откинулся, и вошел Гурко. Его лицо, обычно спокойное, было озабоченным.
— Ваше высокоблагородие, — доложил он с военной четкостью, которая сейчас прозвучала как приговор. — Майор Баранов докладывает из мастерской. У нас закончилось листовое железо.
Я поднял голову.
— Как закончилось? Я же приказывал…
— Последний лист ушел на корпус тридцать пятой ракеты, — перебил он меня. — Порох есть, динамит есть. Делать корпуса не из чего.
Я вышел в мастерскую. Картина была удручающей. Пресс стоял, горн погас. Каторжане-мастеровые сидели без дела, крутя самокрутки. Иван Москвин, наш главный «жестянщик», развел руками.
— Всё, барин. Железо вышло.
Проблема была очевидна, и она была катастрофической. В Иркутске я рассчитывал, что смогу докупить кровельное железо в китайских факториях, но здесь, в дикой степи, его не было.
— А подковы? — спросил я, понимая абсурдность вопроса. — А котлы? У нас в обозе есть запасные котлы.
— Не пойдет, — мрачно ответил Антип Никодимыч. — Котел чугунный или медный, толстый. Его не согнешь в трубу. А переплавить, раскатать в лист — это ж завод нужен, прокат. Здесь, на коленке, такое не сделаешь.
Ситуация казалась безвыходной. Мой главный козырь, мое «чудо-оружие», которое должно было повергнуть в ужас целую империю, превратилось в груду бесполезного пороха. Тридцать пять ракет. Этого было мало. Ничтожно мало для большой войны.
Я решительно развернулся и зашагал в сторону лагеря уйгуров.
Осман-бек сидел у костра, чистя свою саблю. Увидев меня, он встал, приветствуя с достоинством равного.
— У меня проблема, Осман-бек, — сказал я без лишних предисловий. — Мне нужно делать огненные стрелы, но у меня кончилось железо для их тел.
Бек внимательно выслушал перевод Хана. На его лице не дрогнул ни один мускул. Он не удивился, не выразил сочувствия. Он просто кивнул и, обернувшись к группе своих людей, что-то крикнул.
К нам подошел пожилой, седобородый уйгур с руками, похожими на корни старого дерева. Юсуф.
Осман-бек коротко пересказал ему мою проблему.
Старик выслушал, поглаживая бороду. Затем его выцветшие глаза посмотрели на меня с легкой, мудрой усмешкой.
— Железо — это для пушек, нойон, — сказал он через Хана. — А огненные стрелы всегда делали из бумаги. Так учили наши предки, так делают в Китае уже тысячу лет.
— Из бумаги? — недоверчиво переспросил подошедший Москвин. — Да ее ж разорвет к чертям собачьим! Порох — он силу имеет!
Юсуф ничего не ответил. Он жестом пригласил нас следовать за ним.
Мы пришли в нашу мастерскую. По приказу Юсуфа уйгурские женщины принесли стопки плотной, желтоватой бумаги, похожей на картон, — видимо, везли с собой для каких-то нужд, возможно, для письма или оклейки юрт. Притащили чан с каким-то раствором.
— Квасцы, — понюхав, определил Антип Никодимыч. — Или селитра.
Начался мастер-класс. Юсуф, закатав рукава халата, взял лист бумаги и окунул его в раствор.
— Надо вымочить, — пояснил Хан. — Чтобы огня не боялась.
Затем старик взял деревянную болванку-оправку, точно такого же диаметра, как наши железные трубы. Он начал наматывать мокрую, пропитанную раствором бумагу на дерево. Его движения были скупыми, точными, отработанными годами.
Слой за слоем. Каждый виток он густо промазывал клейстером, который тут же сварили на костре. Бумага ложилась плотно, без единого пузырька воздуха, превращаясь в монолит.
Когда трубка достигла нужной толщины — около полудюйма, — он снял ее с болванки и передал двум своим помощникам. Те, взяв катушки с толстой, просмоленной хлопковой нитью, начали туго, виток к витку, обматывать еще сырой корпус.
— Нить удержит силу, — пояснил Юсуф, не отрываясь от работы. — Как жилы держат мышцы.
Через десять минут передо мной лежала готовая труба. Тяжелая, плотная, пахнущая клеем и смолой.
— Высохнет на солнце — будет твердая, как кость, — сказал старик, вытирая руки о тряпку. — Огонь ее не возьмет изнутри. А нитки не дадут разорваться от силы пороха. Легче железа, а держит так же.
Я взял корпус в руки. Он был еще влажным, но я чувствовал его прочность. Это было гениально в своей простоте. Никакой ковки, никакой клепки, никакого дефицитного металла. Бумага, клей, нитки — то, что было у нас в обозе в избытке.
Мои мастера, до этого скептически хмыкавшие, теперь смотрели на работу старого уйгура с нескрываемым профессиональным уважением. Они увидели не дикаря, а Мастера.
— Ну, Иван, — повернулся я к Москвину. — Видал? Сможешь повторить?
— А то! — крякнул тот, пробуя бумажную трубу на прочность ногтем. — Хитро придумано, черт возьми. Сделаем, ваше высокоблагородие.
Я оглядел мастерскую. Тупик был прорван.
— Учитесь, — коротко бросил я. — С сегодняшнего дня производство возобновляется. И не по одной штуке. Ставьте дело на поток. Мне нужно по сто ракет в день.
С утра пришла еще одна новость, к нам двигалась колонна всадников в ярких, шафранно-бордовых одеждах медленно спускалась с холма, и над ними на ветру трепетали пестрые знамена-дарцаги.
— Ламы, — коротко бросил Хан, стоявший рядом со мной.
Впереди, верхом на великолепном белом скакуне, ехал сам Изя Шнеерсон. Вид у него был такой, будто он лично вел евреев через Красное море. За ним следовала свита из десятка монахов-гэгэнов, и, что самое важное, в центре процессии, в богатом паланкине, который несли четыре дюжих послушника, восседал сухой, важный старик в невероятно пышном одеянии, расшитом золотыми драконами.
Мы вышли им навстречу — я, Гурко, Чернов и несколько офицеров.
Изя спешился, поклонился паланкину, а затем с торжественностью церемониймейстера подошел ко мне.
— Приветствую тебя, нойон! — громко, так, чтобы слышал весь лагерь, провозгласил он. — Прими высокого гостя. Это — Хамбо-лама Джамьян-гэгэн, настоятель монастыря Эрдэни-Дзу, хранитель древней мудрости и великий учитель.
Старик медленно выбрался из паланкина. Он был невысок, худ, но держался с властным достоинством. Его узкие, умные глаза скользнули по мне, по моим офицерам, по рядам вооруженных людей. В этом взгляде не было ни страха, ни религиозного экстаза. Это был взгляд опытного политика, оценивающего своего нового партнера.
— Мы пришли, — сказал он через Изю, — ибо знамения на небе и слова в свитках совпали.
Он сделал знак рукой.
Двое молодых лам с благоговением вынесли вперед длинный сверток, укрытый парчой. Они подошли к походному столу, который я приказал вынести на середину плаца, и бережно развернули его.
На столе лежал длинный отрез ярко-желтого, дорогого шелка. На нем черной тушью, вертикальными столбцами, была выведена красивая, сложная вязь письма.
Лагерь затих. Даже каторжане, сбившиеся в кучу, вытянули шеи.
Изя выступил вперед. Хамбо-лама возложил руку на свиток и начал читать. Его голос был тихим, скрипучим, монотонным, похожим на шелест сухого ковыля.
А Изя переводил. И это был не перевод. Это была симфония.
— «Слушайте, люди степи! — гремел голос моего одесского друга, и в нем звучала медь иерихонских труб. — Ибо сказано в древних книгах, начертанных рукой пророков… Когда Дракон из жёлтой глины, что сидит на троне в Пекине, ослабеет и начнет пожирать своих детей…»
Он сделал паузу, обводя взглядом замершую толпу.
— «…с Севера… придет Белый Нойон… неся в руках огонь гневных небесных защитников!»
Все взгляды — и монголов, и моих солдат — обратились ко мне. Я стоял не шевелясь, чувствуя, как по спине ползут мурашки. Это было безумие. Гениальное, наглое безумие.
— «Он придет не один, — продолжал Изя, повышая голос. — Он найдет потомка Голубого Волка… И они встанут плечом к плечу… И гнев их, подобный огненной буре, падет на тех, кто предал заветы предков! На тех, кто носит косу на бритой голове!»