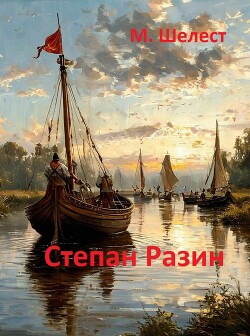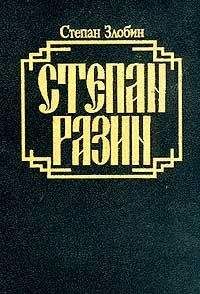Степан Разин. 2 (СИ) - Шелест Михаил Васильевич
Борису Ивановичу я едва ли не 'заглядывал в ро’т и все его просьбы выполнял. Нужно войска выставить на войну с Польшей? На тебе Ваську Уса с полком. Икры не хватает до нужного объёма? Возьми, пожалуйста, мою. Или какого иного товара, например — зерна. Или вдруг голландцы льняное семя скупать начали для французов, а я из него масло жал уже в промышленных объёмах. Нужно? Да, возьми, пожалуйста!
Так и с царём…
Измайлово, благодаря садам, огородам, пасекам и оригинальным застройкам, превратилось в сказочный городок. Мы ведь облицевали дворец древними золото-ордынскими изразцами, привезёнными с Ахтубы. Причём, и в Селитренном, и в Красном Яре бывшие ханские дворцы сохранились практически нетронутыми, так как были засыпаны землёй и песком. Их превратили в ханские усыпальницы и засыпали. После этого столица переносилась. Таких столиц-усыпальниц мы нашли двенадцать.
Увидев неприметные возвышенности и обалдев от предвкушения, прежде чем основать городки, я приказал очень аккуратно курганы раскопать, а потом дворцы разобрать, сняв изразцы и фрески. Земли с курганов хватило, чтобы отсыпать крепостной вал, изразов, чтобы украсить Измайловский трёхэтажный дворец снаружи и изнутри, а драгоценностей, найденных в усыпальницах, хватило бы, чтобы построить второй Московский Кремль.
Знал я, что голландцы здорово «порезвились», раскапывая с разрешения Петра Первого, курганы, но чтобы так⁈ Такого «Клондайка» я себе и представить не мог. Одни только двухметровые золотые кони, хоть и полые внутри, весили около двух тонн. Их была пара, везущая саркофаг с останками Батыя и раскопали мы их в Красном Яре.
В моё время найти могилу хана Батыя не смогли и считали, что она сровнена с землёй. На самом деле, её просто раскопали такие же, как и я, «чёрные археологи».
Практически, по всему левому берегу Ахтубы мы находили хорошо сохранившиеся останки старых Золотоордынских городов, или курганы. Между Красным Яром и Селитренным — я знал это и раньше — располагалось «Древнее поселение Ак-Сарай и руины феодального замка Давлет-хана». Так писали в наше время на туристических интернет-сайтах.
Но сейчас это был не только заброшенный хоть и древний посёлок, но и комплекс хорошо сохранившихся мавзолеев, предположительно ханов Золотой Орды Берке, Узбек-хана, Джани-бека и Берди-бека. Всего археологами позднего времени было и раскопано около двадцати захоронений, разрушенного ещё Тимуром города. Тимур не разрушал акрополи, как я сейчас понял. Они были разрушены и разграблены не тогда и не сейчас, а в более позднее время.
Ещё совсем недавно тут стояли кочевья ногайцев и калмыков, свято выполнявших функцию охраны захоронений предков.
Интересно, что на карте братьев Пицигани[1], датируемой одна тысяча триста шестьдесят седьмым годом, здесь находится условный знак в виде мусульманского мавзолея. Пояснительная надпись гласит: «Гробницы императоров, умерших в районе Сарайской реки».
На карте Фра-Мауро[2] от тысяча четыреста пятьдесят девятого года также обозначено это место, названное «Sepultura imperial» («Императорские захоронения»).
Знание того, что на речке Ахтуба располагалась «империя» Золотой Орды и некоторых локаций золотоордынских городков и столиц, а так же то, что курганы до Петра Первого не были вскрыты, позволили мне значительно пополнить свою семейную казну и казну Алексея Михайловича.
Конечно же, вскрывали бывшие дворцы, ставшие акрополями, мы вчетвером с Тимофеем, Иваном и Фролом. Да и не знал никто, что это захоронения. Дворец и дворец… Подумаешь! Мы и не раскапывали дворцы полностью.
Начинали копать сверху кургана, натыкались на потолок, разбирали его, проникали в помещения дворца, выносили сокровища. И всё.
Богатые находки скрыть было не возможно, и мы их не скрывали, так как буквально всё найденное отправлялось в Москву. Всё, что можно было перевезти. В Кремле, конечно, знали, что это за вещи. Я подробно описывал помещения и где, что лежало, и зарисовывал. Двадцать пять альбомов я вёз теперь в Москву. Рядом с саркофагом лежали основные сокровища. Сами саркофаги мы не трогали.
Царская казна за десять лет раскопок ломилась от Золотоордынских артефактов. Только оббитых золотом и усыпанных драгоценными каменьями тронов мы привезли царю три штуки. Хе-хе… Встречались и монетные клады, которые я тоже полностью передавал в государеву казну, правда, получая взамен тридцать процентов рублями. В кладах попадались так называемые «ярмаки» — серебряные монеты времен хана Менгу-Тимура[3], «данги» — хана Узбека[4] и хана Джанибека[5], и многих других ханов Орды.
Совсем не разбираясь в нумизматике, я отправлял откопанные деньги на счет и на вес, а мне присылали список с «раскладом» сколько каких денег переслано, какого веса, «сдачу» в тридцать процентов и благодарственную грамоту от царя Алексея Михайловича. В Московской казне нумизматику и цену деньгам «знали» хорошо.
Безжалостно «грабя» курганы, я ужасался, сколько золота утекло из России по дипломатическим каналам во времена Петра Великого. Сейчас древние скифско-сарматские украшения оседали в закромах русского царя. Только с парой отлично изготовленных коней я пока не знал, что делать. Отдать царю? Не знаю, не знаю…
Не будучи святым и имея перед собой вполне пристойные цели, некоторые украшения, да простят меня будущие археологи, я скрепя, сердцем отдавал на переплавку, которую мы наладили в Красном Яре. У меня получилось переработать добытую на Яике соль в чистейший боракс, что оказалось очень даже не просто. В ходе процесса переработки соли мне стало понятно, что, когда я сам намеревался переплавить золотые самородки, у меня бы ничего толкового не получилось. Ну, или промаялся бы я с переплавкой пару месяцев и пожёг бы золото впустую.
Сейчас на меня работал младший сын Дербентского ювелира, который не только переплавлял «малоценные» золотые украшения, но и чеканил нужную мне монету. Причём, те механические новшества, что ввёл у себя я, понравились Дербентскому ювелиру, который с удовольствием посетил мою «столицу» на Ахтубе примерно летпять назад и помог наладить выпуск ювелирной продукции, прислав двух отличных специалистов.
Погрузив на корабли «подарки» царю, я отплыл из Красного Яра вверх по реке третьего сентября тысяча шестьсот шестьдесят шестого года. Отплыл с ощущением тревоги и с беспокойством в сердце. Хоть и шло со мной войско на двадцати больших двухмачтовых «стругах», но на душе скребли кошки. Всё-таки с собой пришлось взять самых верных, ибо времена наставали смутные. А Тимофей с братьями остались в Кабарде…
Вернее не в Кабарде, а в Северной Кумыкии, что располагалась на Кумыкской равнине между реками Терек и Сулак. Нам наконец-то удалось договориться с Сыном Гирея Первого, правившего частью Засулакской Кумыкии, а именно Эндиреевским княжеством, отделившимся от Шемхальства. Между Сулаком и Тереком находились ещё два самостоятельных княжества Аксайское и Костекское. Они располагались ближе к Тереку и постоянно враждовали с Эндиреевским. Этим мы и воспользовались, убедив Сурхая Третьего шамхала Тарковского в том, что наша крепость успокоит соседей.
Более десяти лет царской дипломатии и вооружённого подавления восстаний многочисленных княжеских отпрысков потребовалось, чтобы «убедить» местных князей, что русские войска несут на земли Кабарды мир. В последнее время на берега Кубани и на других реках были поставлены крепкие городки, которые наполнились казаками и русскими крестьянами-землепашцами. Ибо за двадцать лет распрей и погромов земли предкавказских равнин оскудели. А свято место, как известно, пусто не бывает. Не я ссорил между собой Темрюкских и Шамхальских княжат. Хватало и без меня интересантов: турки и иранцы спорили между собой за территориальное влияние, а взяли сии земли под контроль мы. Наш «семейный подряд».
Потому и находились на Сулаке, и Тимофей, и Иван, и Фрол, а с ними, по крепостицам, до пяти тысяч казаков.
Подъём по Волге в сентябре был труден, хоть и шли корабли полупустыми, высадив и людей, и лошадей. Лямку приходилось тянуть всем, не взирая на казачий «понт» и низкий статус «бурлака». За эти годы личным примером мне удалось сбить спесь со старых казаков и воспитать поколение с новыми понятиями казачьей гордости.