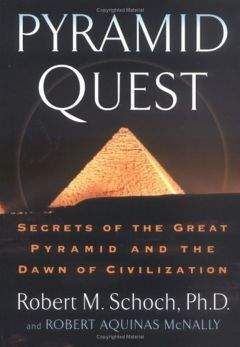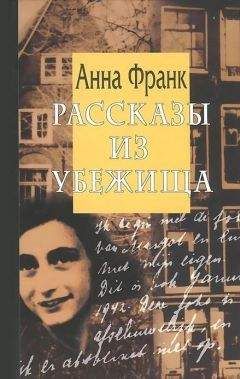Аннелиз - Гиллхэм Дэвид
— Это Нелли! — вслух восклицает Анна.
— Кто?
— Нелли. Сестра Беп.
Марго поднимает глаза:
— Где?
— В трамвае. С мофом, — подчеркивает Анна, но трамвай уже уезжает, разбрызгивая искры.
Марго пожимает плечами:
— Должно быть, тебе привиделось.
Но по пути в контору Анна мысленно беседует сама с собой. Надо ли поговорить с Беп? Не будет ли для нее потрясением узнать, что одна из ее сестер была замечена под ручку с захватчиком? Но что, если Беп понятия не имеет о том, что происходит? Может, если Анна проболтается, Беп сможет как-то урезонить сестру, удержать от постыдной неосмотрительности? С другой стороны — а вдруг Беп все уже знает, и ей слишком стыдно. Тогда Анна лишь еще больше унизит ее.
В конторе Анна сразу идет на кухню, чтобы убрать продукты, и видит Беп — она стоит к ней спиной. Анна зовет ее по имени, и та оборачивается: глаза за стеклами очков так и горят.
— Анна! — восклицает она. И сглатывает ком в горле.
Анна быстро крестится, ставит сумку на пол и осторожно берет Беп под локоть:
— Что случилось, Беп?
Мгновение Беп может лишь молча качать головой.
— Что? Вы поругались с Бертусом? — предполагает Анна.
При звуке этого имени глаза Беп наполняются слезами:
— Нет. Не поругались, — говорит она. И не желает продолжать, но слова сами, спотыкаясь, вырываются наружу: — Бертуса отправляют в трудовой лагерь.
Arbeitseinsatz. Это все объясняет. Так называемые «трудовые командировки» голландских подданных в Германию для поддержания бесперебойной работы нацистской военной машины. Неужели Бертусу придется изо дня в день работать на немецком заводе или в трудовом лагере — это ужасно! Как он сможет пережить этот кошмар? Под пятой мофов, как раб? И если бы только это: как насчет бомбардировщиков союзников, которые с ревом проносятся в сторону Германии? А что, если бомбы упадут на голову Бертуса? Бомба ведь не может отличить доброго голландца от немца, сквозь слезы замечает Беп. Она может только падать и взрываться.
— Неужели ничего нельзя сделать? — негодует Анна, но Беп лишь яростнее качает головой, срывая очки, чтобы протереть глаза тыльной стороной ладони:
— Нет. Ничего.
— А что Пим? Ты с ним говорила? — спрашивает Анна. — Наверняка он сможет что-нибудь придумать.
— Нет, Анна. Нет. Ничего не поделаешь. Бертус получил повестку, и, если будет сопротивлятъся. его отправят в концлагерь. А то и просто — в дюны и там расстреляют.
Думать об этом оказывается настолько невыносимо, что Беп раскисает. Анна немедленно заключает ее в объятья, крепко прижимая к себе, пытаясь погасить ее всхлипывания. Поглаживая Беп по спине и ласково называя ее по имени, она чувствует, как соленая влага впитывается в ткань блузки на плече. Если единственное, что можно сделать, — обнять и утешить плачущую Беп, то с этим Анна вполне справится.
Однако вечером она пользуется первой же возможностью, чтобы рассказать о трагедии Беп за ужином. Пим, занесший нож и вилку над тарелкой, замирает, мрачно качая головой.
— Ужасная новость, — соглашается он.
Анна пытается выжать из него что-нибудь еще. В конце концов, ее отец — человек опытный. Смог ведь он уберечь целую еврейскую семью среди нацистской оккупации. Неужто не сможет спасти одного-единственного христианина от трудового призыва?
— Неужели ты ничего-ничего не сможешь сделать, Пим? Сможешь ведь?
Но отвечает ей мать — резко, так, что Анна поморщилась.
— Сделать? Не глупи, Анна. Что вообще может сделать твой отец? Неужели ты до сих пор не поняла? Мы евреи. У нас нет никакого влияния.
На миг все умолкают, а потом Пим подается вперед, всем своим видом выражая сочувствие.
— Эдит… — начинает он.
Но даже Пим не может удержать маму — пробормотав «простите», она в слезах выбегает из кухни.
К тому моменту Анна сама близка к тому, чтобы разрыдаться.
— Я не хотела ее расстраивать, Пим. Правда!
Марго так и замирает:
— Можно я пойду за ней? — И уже готова соскочить со стула, но Пим останавливает ее.
— Она будет в порядке. Это нервы. Ей нужно побыть одной.
Кажется, это срабатывает. Когда ужин подходит к концу и пора убирать со стола и мыть посуду, мама возвращается и ведет себя как обычно.
— Анна, осторожнее, — предупреждает она, когда дочь берет в руки большое блюдо. — Мой фарфор пережил переезд из Франкфурта, так что ни блюдечка не пострадало. А теперь я всего лишь прошу, чтобы он пережил руки моей младшей дочери. Неужели я хочу многого?
Той ночью, лежа в постели, она пыталась вообразить, каково это — работать в трудовом лагере. Как Бертус, сгорбленный, в грязной одежде, копает траншеи под присмотром уродливых надзирателей в стальных касках и тяжелых ботинках с автоматами наизготовку. Дальше придумывать не получается. Несомненно, там сплошной ужас — но как он выглядит и в чем заключается, ей представить трудно.
Два года назад они завоевали Нижние Земли, и теперь они здесь повсюду. В кафе и ресторанах — люди в серо-стальной форме. Вереницы грузовиков «опель блиц» с трудом пробираются лабиринтами узких улочек, сокрушая мостовые и заглушая все прочие звуки вопреки всем голландским законам. Если бы по Амстердаму рыскали стаи голодных волков, ощущения были бы точно такими же, как после нашествия мофов. «Моф» — это голландское обидное слово — так насмехаться может только голландец. Оно немного старомодное, означающее что-то вроде «сварливый и недалекий». Не очень-то оскорбительно для убийц и оккупантов, но голландский язык сам по себе не любит грубостей, так что это лучшее — оно же худшее, — что он может предложить. Голландцы могут обзывать друг друга всякими болячками — язвой там или гнойником. Но если растратить любимые ругательства на немцев, как же потом называть друг друга?
Однако же в обидных названиях для евреев недостатка нет. Жид, пархач, христопродавец — к тому времени Анна успела услышать все и каждое. Может не хватать угля, мяса, молока и свежих продуктов, но оскорблений для нее и ей подобных всегда в избытке. И это обидно: она очень любит голландцев. Ей нравится быть голландкой. Она вдохновляется историей о том, как здешние транспортные рабочие объявили забастовку в знак протеста против налетов эсэсовцев — жестоких нападений на еврейский квартал. Но тут ее подруга Люсия — они знали друг друга еще со школы Монтессори — приходит на игровую площадку в униформе молодежного националистического союза и заявляет, что не придет на ее день рождения, потому что мать больше не разрешает ей дружить с еврейкой. Анна пристально смотрит в глаза Люсии после этих слов. Вид у той растерянный. Ей больно. Мать всегда подавляла Люсию, но Анне нисколько не жаль ее. Уж на что она презирает немцев, но голландцев, которые с ними заодно, предавших свою королеву и вступивших в Национал-социалистическую партию [6], презирает еще сильнее. Сборище подлых фашистов, вышагивающих по улицам в начищенных ботинках и позаимствованных флагах со свастикой, точно это они, а не мофы захватили страну. Анна зло смотрит на черную с оранжевым шапочку на голове Люсии, украшенную значком с изображением чайки. Анна обожает чаек и любит смотреть, как они кружатся над каналом, и внезапно чувствует, что ненавидит Люсию. Презирает за то, что она приспособила ее любимую птицу под грязные фашистские эмблемы. Анна с удовольствием плюнула бы в круглое поросячье личико, но лишь надменно произносит:
— Очень жаль. Ты пропустишь лучший в мире праздник.
И продолжает шутить и смеяться. Шепчется с подружками в классе и перебрасывается записочками. Хвастается умением прыгать на одной ноге, играя в классики на игровой площадке. Рубится в «монополию» дома у Ханнели. Вечером за ужином делится новостями: теперь ее любимый цветок не ромашка, а роза, и подруга Жаклин позвала ее в гости с ночевкой. И умоляет родителей отпустить ее: от Марго, как обычно, проку не добиться. Сестра заявляет, что и помыслить не может о том, чтобы не ночевать дома во времена, когда тысячи немецких солдат квартируют в домах голландцев.