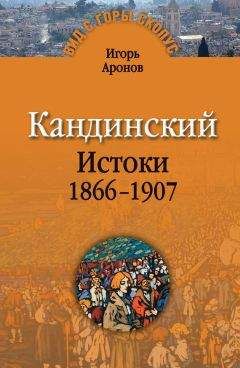Роман Тименчик - Что вдруг
Среди ономастических стихотворных рассуждений С. Рафаловича есть и апология собственного самовольного прозванья:
Саломочкой ее зовут другие.
Не так, как все, я называл ее.
Молитвенное имя есть – Мария,
И грешницы святой есть житие…
А в кабаке у деревянной стойки,
Взмостившись на высокий табурет,
Безмолвная участница попойки
Пьет чрез соломинку сверкающий Моэт.
Он блещет золотом расплавленным и алым.
Как будто кровь растворена в вине.
О черной женщине, склоненной над бокалом,
Зловещий сон недаром снился мне.
В вечернем платье с вырезом широким
И в шляпе черной, плоской и большой,
Она каким-то призраком жестоким
Склонялась жадно над моей душой
И, как вампир, ее живые соки
Безостановочно и медленно пила…
Вот платье черное, и вырез в нем широкий,
И брови тонкие, как легкие крыла…
Как сладко мне о грешнице Марии
тать, надежд обманных не тая.
Саломочкой ее зовут другие.
Сбылся мой сон, соломинка моя48.
Как видим, домашнее имя, предложенное Рафаловичем (ср. в характеристике Сержана Рафаля у Радулуса: «в соломенном костре истлев»), было подхвачено Мандельштамом в «Соломинке».
Византийская генеалогия Саломеи, античная и средневековая история Крыма (в частности, замок Алустон, воздвигнутый при Юстиниане), настроения послефевральского лета сплетены в стихотворении С. Рафаловича «В Крыму», датированном «Алушта 1917 г.» и опубликованном с посвящением «Саломее Андрониковой». Мотив «золотого руна» в мандельштамовском стихотворении «Золотистого меду струя…», возможно, подсказан этой историко-культурной медитацией С. Рафаловича:
Прижалась к берегу недальняя дорога,
Встал на дыбы прибрежный ряд холмов,
А к нежной синеве, спадающей отлого,
Уходит море медленно и строго,
Как грузный зверь на свой звериный лов.
Застыл в горах размах тяжелой пляски,
Тысячелетен лад дробящейся волны.
И только люди, как на сцене маски,
То радостной, то горестной развязки
Для кратких игр искать принуждены.
Вон там, где узкие меж двух морей ворота,
Сражались воины полсотни городов,
И не было в их мужестве расчета,
Но лишь о чести и любви забота
И мера будущих эпических стихов.
И путь от родины продолжив в эти дали,
Когда-то мимо наших берегов
Проплыл корабль, чьи паруса сверкали
Тем золотом, которого искали
Пловцы суровые и чтившие богов.
А в буйный век, изнеженный и грубый,
Смиренных подвигов и дерзостных измен,
Пока гремели крестоносцев трубы,
Меж диких скал лобзал девичьи губы
И в рабстве страсти царственный Комнен.
И вот, зыбуча, как пески морские,
Под нами твердь, и даль я стерегу,
Где Илион, Эллада, Византия,—
Меж тем, как за руном пустилась в путь Россия,
И дочь Андроника стоит на берегу49.
Имя именинницы было, как известно, чрезвычайно «громким» в эпоху модерна50.
Эскиз истории мотива набросал Андрей Левинсон: «Самый замысел «Саломеи» Уайльда возник из украшенной и бряцающей прозы экзотических видений Флобера: его «Иродиады» и не менее того «Саламбо».<…> В ней налицо то же смешение кровавого варварства и загнивающей цивилизации, те же расовые противоречия, тот же муравейник племен и верований, что и в карфагенском романе Флобера. Но самый образ Саломеи, трагической девственницы, лишь эпизодичен у Флобера, а пляска ее – страница воспоминания о путешествии на восток. Для сладострастного холода, одинокого томления девственности, прообразом Уайльда явился драматический отрывок Стефана Малларме «Иродиада», а для пляски царевны – мистическая эротика знаменитой картины Гюстава Моро, как описал и прославил ее Гюисманс в книге, бывшей у автора «Дориана Грея» настольной. <…> От первого лепета христианского искусства, изображения Саломеи бесчисленны; вспомним чугунный рельеф на вратах церкви Сан-Дзено в Вероне, времен Теодориха Великого, где царевна ходит на руках перед Иродом; прекрасную флорентинку Андреа дель Сарто; иронически-эротическую Саломею конца века, начертанную Бердслеем; Саломею – Карсавину с написанной Судейкиным прямо на стройном колене розой»51.
Заданные именем и генеалогией историко-культурные ассоциации окружают облик С.Н. Андрониковой в то алуштинское лето, и, например, 29 июля ей пишет триолет Анна Радлова:
Воспетую воспеть я не умею,
Я знаю, византийский Серафим
Сестру свою царевну Саломею
Звучней воспел бы, чем я петь умею.
О немощи своей я пожалею —
И будет лавровый венок моим.
Воспетую воспеть я не умею.
Сестру свою прославил Серафим? 52
Анна Дмитриевна Радлова (1891–1949), жена С.Э. Радлова53, оставила стихотворный памятник этому долгому, затянувшемуся лету в одной из своих лирических пьес:
Мы из города слепого
Долго, долго ждем вестей.
Каждый день приносит снова —
Нет ни вести, ни гостей.
Может быть, наш город темный
В темном море потонул,
Спит печальный, спит огромный
И к родному дну прильнул.
Александрова колонна
Выше всех земных колонн,
И дворец, пустой и сонный,
В сонных водах отражен.
Все, как прежде. Только ныне
Птицу царскую не бьют,
Не тоскует мать о сыне,
Лихолетья не клянут.
Спят любимые безбольно,
м не надо ждать и жить,
Говорить о них довольно —
Панихиду б отслужить.
(1917. Декабрь)
Радлова-«Деметрика» – одна из персонажей пьесы и один из источников «чужого слова» в ней. В 1917 году она еще не рассматривалась никем как соперница Ахматовой, это происходило позднее54, когда Анна Радлова заметно выдвинулась на литературную арену55. Позади лишь был эпизод легкого взаимного заигрывания Сергея Радлова и Ахматовой, зафиксированный их перепиской ноября 1913 года56, подхваченный петербургскими сплетнями57, иронически поминаемый Ахматовой58 и предшествовавший женитьбе Сергея Радлова на Анне Дармолатовой59. Но неизбежное для начинающей в середине 1910-х петроградской поэтессы следование манере «Четок» обыграно во вложенном в уста Деметрики заимствовании из ахматовского «Не будем пить из одного стакана»:
Мы пьем вино из одного стакана,
И я одна дарована двоим,
Чтоб был Шухай, чтоб был и Валеранна
Любовником моим.
Речи и мысли Деметрики перепевают мотивы стихов Анны Радловой – из тех, что, вероятно, читались ею по вечерам в дачном кружке:
Не море, милый, нет, не говори, —
Многоголосая то фуга Баха
Однообразно без любви и страха
Поет. Мы розоперстой ждем зари.
Сядь ближе, так. Тебе я расскажу
О друге, что с тобою обманула.
Ах, лучше б в доброй я земле уснула.
В лукавые глаза дай погляжу.
Забыть я так хотела о других,
Опущенных, послушных, золотых60.
Или —
О чем-то море непрерывно лжет…
Его лицо все боле застилает,
Соленое, лукаво убеждает
Забыть навек горячий детский рот.
Поверю ласковому я врагу,
Забуду императорское имя,
Веселыми стихами и чужими
Я душу от него уберегу.
Но, взнесены искусною рукой,
Готические кипарисов башни
Мне говорят о верности вчерашней,
Смущая мой взлелеянный покой61.
«Императорское имя» в этом стихотворении – Валериан, имя критика, стиховеда Валериана Адольфовича Чудовского (запомнившегося невнимательным современникам, главным образом, одним своим жестом послеоктябрьской поры62).
По-видимому, ему же адресован триолет 1916 года:
Твоих ресниц бесчисленные жала,
Названье необычное твое.
Чужими показались мне сначала
Твоих ресниц бесчисленные жала.
Увы, напасти я не избежала,
Вонзились в грудь, не пощадив ее,
Твоих ресниц бесчисленные жала,
Названье необычное твое63.
Он же, видимо, и адресат стихотворения «Памятник»:
Ты будешь мне Архистратигом сниться
С соблазном обнаженного меча,
С открытыми глазами, как у птицы,
Что смотрит в солнце, не боясь луча64.
Ономастические перифразы на фоне повсеместной риторической оснащенности65 текста (то свойство, о котором М. Кузмин в рецензии на «Соты» писал: «Некоторая торжественность тона и эпитетов (Мандельштам?) не смешна, но кажется скорее поэтическим приемом»66) были спародированы Мандельштамом:
Архистратиг вошел в иконостас,
В ночной тиши запахло валерьяном67.
О своей любви к Анне Дармолатовой, в 1914 году ставшей женой С.Э. Радлова, Валериан Чудовский (в 1916 году назначенный заведовать отделом изящных искусств Публичной библиотеки в Петербурге) говорил как о роде религиозного поклонения, причем существенную роль в этом культе играли фотографии Радловой68. «Аполлинический» (а не «дионисийный») поклонник Анны Радловой, постоянный автор журнала «Аполлон» (одно время исполнявший и секретарские обязанности), приехавший в Алушту навестить Радловых, предстает в пьесе в ореоле ярко-индивидуальной речевой характеристики, соответствовавшей его программной языковой политике: сохранение памяти о внутренней форме в грецизмах и «стремление для тех иностранных слов, без коих совсем нельзя обойтись, перенимать только основу, проводя все дальнейшие образования уже вполне по-русски. Потому я говорю <…> иамбовый, трагедийный <…>, стараясь провести в русском языке самобытность, заметную в других языках славянских»69. В «Кофейне» Валеранна – Чудовский говорит (оказываясь к тому же автором термина «сказ», подхваченного формалистами):