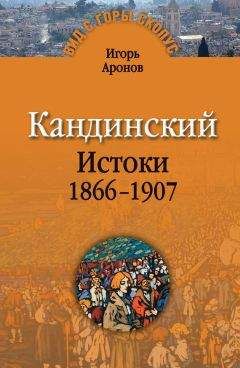Роман Тименчик - Что вдруг
Стихотворения Гринберга приходится оглашать целиком. (Конечно, иной читатель скажет, что автор предлагаемого, несколько легковесного, под занавес книги этюда попросту хочет, чтобы побольше людей прочитало стихи иерусалимского поэта, и он, читатель этот, не будет неправ.) Полновесность его речи, тугой ход смысловых вспышек подбивает читателя откликаться на эти стихи благодарным цитированием, но тут выясняется, что именно это-то и невозможно. Нет у него и не должно быть крылатых слов, выпархивающих безоглядно из своего контекста. Мягкая властность мастера не позволяет полакомиться любителю выковыривать изюм. Нравится строчка? – берите целиком стихотворение. Помещенные в его стиховой текст чужие слова требуют смыслового разгона перед собой и отзвуков после себя. Цепкие строки из лакомых стихов в засаде поджидают беспечную мимоидущую реалию и в час роковой невпопад накидываются на нее.
Все дни похожие, а этот не такой,
То будние, а этот был в апреле,
Квартирку мы снимали у Яэли,
Но это, к слову, разговор иной.
В тот день я был везде, и ты была со мной
В Гило, Ре’хавии, потом в Кирьят Йовеле
И в старом городе, охваченном стеной,
Где, несмотря на нестерпимый зной,
С толпой зевак по сторонам глазели.
Что понял я тогда, непобедимый лапоть,
Когда пошли мурашки по спине,
Про них, про земляков в широкополых шляпах,
Как стали кудри наклонять и плакать
И тени оставлять на Западной стене?
Испанские донны двойной экспозицией впечатались в картинку у Котеля. Ямбы первого поэта возникают у Гринберга не как репризный бонус, заставляющий слушателя благосклонно осклабиться, как это бывает в эстрадном фельетоне, а каждый раз пугающе, с теми мурашками, о которых только что было сказано. Главные и неотменимые созвучия русского стиха появляются внезапно среди стершихся в мусор клише, вроде придуманного когда-то Израэлем Зангвиллем про Америку «плавильного котла»:
С Иаковом сложней. Я думал, представлял,
Как он один, и ночью, и в пустыне
Лежал
И звездный Божий тент
Был не рукой подать, как полагают ныне.
Но каждый раз, когда оканчивался день
И эти самые немые стоны града
Полупрозрачная скрывала ночи тень,
Накувыркавшийся в плавильном котелке,
Я чувствовал себя не то чтобы легко, а налегке
На лавке независимого сада.
Чужие слова возникают и как знак своего рода благодарности литературным учителям, скажем, наставнику по части оседлания стиха разговорными интонациями, Борису Слуцкому:
А мой хозяин не любил меня.
Дотошный был и мелочен, как баба.
И как я драил кухню, выяснял
Наутро через одного араба.
И тот стучал, не пропуская дня.
В его кафе районного масштаба
С рассвета начиналась беготня,
Как в дни собраний Аглицкого клаба.
Все эти дни мне кажутся одним.
И вот меня сменил залетный пилигрим.
А кто такой, припоминаю слабо,
Он, кажется, забрел в Иерусалим
Из некоего места со смешным,
Кто понимает, именем Кфар-Саба.
Несносный подслушиватель и подглядыватель, он пестует тусклую риторику провинциального нудежа, выволоченного на левантийское рандеву (какого-нибудь нищенски-напыщенного «и я вам скажу»), все эти тягучие подробности постсоветского и новорепатриантского нарратива, не забывая наблюдать, как абсорбируется его любимый ямб, как корежит и плющит его хамсин, распластывая изохронией четырехстопник до пятистопника – эта голосовая разрядка и мелодический курсив в «и все-таки…»… Гринберг вообще умеет вписать в стихоряд уйму интонационных извивов, не утруждая господ наборщиков:
И я об этих, с пейсами, скажу.
Их много, и становится все больше.
Вольно было в России или Польше,
Но здесь, в Израиле, ну я вам доложу…
Молиться целый день, окружены врагами?
И кто? – все молодые мужики.
Нет, я за Библию обеими руками,
И все-таки…
А с бабою в автобусе видали?
Молчит и смотрит вдаль, как марабу.
Я вам скажу, десяток лет, не дале,
И весь Израиль вылетит в трубу.
Наши ямбы звенят на звукозрительном фоне непривычной жизни с ее расслаивающейся оптикой и гортанной акустикой, настоянной на «харедим», и «хаки», и «хайот». Они разом лишились домашнего эхо, они не отбрасывают эмоциональной тени в испепеляющий полдень. Мы присутствуем при стихостроении в чистом виде, я бы сказал – при чистом словоговорении, да не хотелось бы смущать досужих остряков. Слово означает только то, что видит, знак изображает самого себя, как в том виде искусства, которое в прошлом веке именовали десятой музой. Живая фотография, немое кино с безошибочными титрами. «Ки-не-ма-то-гра-фи-чес-ки-е-ха-ри-на-сте-нах-гра-да-И-е-ру-са-ли-ма», как некогда было сказано в ямбическом пятистопнике русско-еврейского поэта Довида Кнута. И все родимое настолько вдалеке…