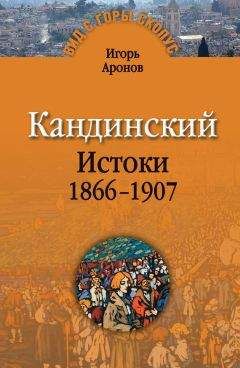Роман Тименчик - Что вдруг

Обзор книги Роман Тименчик - Что вдруг
Роман Тименчик
Что вдруг
Статьи о русской литературе прошлого века
…посвящается моим слушательницам и слушателям
1991–2008 гг.
Часть I
Вид с горы Скопус
Вид с горы Скопус
…И все родимое настолько вдалеке,
Что дети задают безумные вопросы.
Семен ГринбергЗа почти восемнадцать лет, что я преподаю историю русской литературы в Еврейском университете в Иерусалиме, самым частым из обращенных ко мне русскоязычных вопросов был такой: а зачем преподавать историю русской литературы в Еврейском университете в Иерусалиме? Я всякий раз отвечал на него по-разному, с разной степенью встречной агрессивности, но всегда избегая честного ответа, что вопрос этот дурацкий. А вот вопрос о том, меняется ли взгляд на русскую литературу, как посмотреть да посравнить с горы Скопус, гораздо более осмыслен. Так, увиденный во время предвыборной кампании Шарона артефакт – его лицо, приклеенное к фанерному силуэту мужчины, указывающему на дешевую парикмахерскую при иерусалимском рынке, как бы «Пожалуйте бриться!» – подтолкнул к написанию сочинения о подтекстах мандельштамовского сравнения «как руки брадобрея». Подвернувшаяся на толкучке в Яффо, неведомая никому, не попавшая ни в какие книгохранилища и библиографические указатели петроградская книжка русских стихов 1922 года затянула в долгие и не вовсе бесплодные архивные поиски. Не говоря уж о русской части архива Эзры Зусмана, легендарного одесского «Эзры Александрова», хранящейся у его потомков1, или о письмах Вяч. Иванова к Лейбу Яффе в Архиве сионизма в Иерусалиме2. Выглянувшая из развала на распродаже в университетской библиотеке древняя грампластинка с аргентинским танго «Эль Чокло» вызвала острое воспоминание о солнечном снежном московском полдне, когда я еду в автобусе, везу свежий номер «Вестника русского христианского движения» с только что напечатанным «Мексиканским дивертисментом», чтобы поскорее показать старым друзьям Бродского, и осторожно полуоткрываю обернутый в газету журнал так, чтобы соседи по автобусу не заметили несоветской верстки, но в неистребимой потребности реагировать на головокружительное стихотворение мурлычу на мотив «На Дерибасовской открылася пивная», и из этого воспоминания возникла статья «Приглашение на танго».
Совсем недавно открывался в Иерусалимской русской библиотеке рачением легендарной Клары Эльберт отдел редкой книги, и в первый же день на полках его в вытащенных на пробу томиках ждало меня маленькое открытие. Оно и впрямь маленькое – в тот же день было объявлено об обнаружении гробницы Ирода, – но шесть библиотечных единиц сложились в библиофильскую новеллу, которую остается записать, если руки дойдут. Шесть книжек с дарственными авторскими надписями из библиотеки умершей в 1957 году в Тель-Авиве дочери Ашера Гирша Гинцберга, известного как Ахад-а-Ам, – Рахель (Розы) Гинцберг. Сочинения Михаила Осоргина, второй женой которого была дочь Ахад-а-Ама (и об этой семейной драме не раз писали историки сионизма), постепенно в надписях становившегося все суше по мере иссякания брачного дружества, но все же в последней подытожившего: «Рери – в память долгих дней и в благодарность за вечные обо мне заботы – любовно и дружески Михаил Осоргин Paris 28.2.28». Замечательна там и авторская правка 1921 года. Ревнитель языка исправлял у себя «маленький домик в пару комнат» на «в две комнаты», «пара длинных писем» – на «два письма». Эта втершаяся с языком беженцев в годы войны «пара» в смысле «несколько», как сегодня приблатненное, посадское «пару-тройку», была ему гвоздем по стеклу.
Из вопросов студентов и аспирантов о профессии историка литературы явствует, что в головы моих юных коллег были внедрены не совсем точные представления о том, каково было заниматься историей русской литературы эпохи модернизма в позднесоветские времена. (И таким образом получается, что, как Епиходов, «собственно говоря, не касаясь других предметов, я должен выразиться о себе, между прочим…»).
А во времена эти особенность занятий «серебряным веком» (если не годится эта наклейка, можно обозвать как угодно иначе, хоть «позорным десятилетием», хоть золотым горшком, в печь только не надо ставить и разогревать позавчерашние яства, выдавая их за свой повседневный рацион) состояла в том, что в него, в век этот, можно было позвонить – М.А. Зенкевичу, гэ шесть сорок девять пятнадцать, простите, можно Михаила Александровича… (спросить, например, а не написал ли он в стихотворении, которое Ахматова попросила ей посвятить, —
И чудится, что в золотом эфире
И нас, как мясо, вешают Весы,
И так же чашки ржавы, тяжки гири,
И так же алчно крохи лижут псы. —
каковой переход, замечу во вторых скобках, «к вечности и Богу» после сочного реализма описания бойни Гумилев объяснял «требованиями композиции» – потому что был он под впечатлением стихотворения Франсиса Жамма, и услышать, что нет, тогда он еще Жамма не читал).
К этому веку можно было зайти на дом – к Игнатию Игнатьевичу Бернштейну (А. Ивичу), который вспоминал вдруг, скажем, эпиграмму, некогда свежеуслышанную от старшего брата С.И. Бернштейна, – про Гумилева, «когда с Георгьевским крестом свершает подвиги в “Привале”» (а это значит тысяча девятьсот шестнадцатый год).
Туда можно было написать, как писал мой приятель Саша Парнис в Мюнхен Иоганнесу фон Гюнтеру («и еще был при этом какой-то немчик», – рассказывала Ахматова Анатолию Найману историю дуэли Гумилева и Волошина), Константину Ляндау (из «Нездешнего вечера» Цветаевой!) и многим, многим другим. Или слышать от художника рижского Театра русской драмы Юрия Феоктистова пересказ слов Сергея Радлова, которому когда-то Гумилев говорил, что он, Гумилев, для того, чтобы писать стихи, должен объезжать весь свет, а Блоку достаточно дойти от своей квартиры до аптеки, чтоб написать гениальное стихотворение, или что его отца (сибирского писателя Н.Феоктистова) Осип Мандельштам как-то в Доме Герцена принял по ошибке за Емельяна Ярославского и рвался подискутировать на понятно какую тему. А актер и по совместительству вахтер рижского ТЮЗа Рихард Петрович Церинь рассказывал, как хаживали до войны в баню с критиком Петром Мосеевичем (не Моисеевичем, корректоры и историки литературы!) Пильским по рецепту друга Пильского – писателя Куприна: первым делом на полок выливается бутылка красного вина.
…Можно было заполночь слушать за коньяком первого исполнителя роли Неизвестного в мейерхольдовском «Маскараде», актера той же Русской драмы, когдатошнего эмигранта Н.С.Барабанова. Он учил, как правильно пить коньяк (лимон, грецкие орехи, серебряный щелкунчик), изображал, как Мейерхольд принимал его в пустой городской квартире, когда семья и прислуга были на даче: на бесконечно длинный обеденный стол ставились всё новые тарелки, а использованные последовательно накрывались набегающей волной скатерти. Или как летним днем Барабанов вернулся поездом со взморья, а на перроне вокзала из окна международного вагона на пути из Берлина в Москву Всеволод Эмильевич без лишних слов спросил, не хочет ли Барабанов вернуться в Россию, и поезд вдаль умчало. И как прятался в оккупацию от немцев, чтобы его не снимали в пропагандистских фильмах. Я, помимо прочего, спросил, отчего так скупо освещена роль Неизвестного в «аполлоновской» рецензии В.Н.Соловьева (Вольмара Люсцинуса), он не знал, что и сказать, а несколько лет спустя О.Н.Арбенина, которую я расспрашивал о Мандельштаме, Гумилеве, Кузмине, вспомнила, как сидела она, молодая актриса, в коридоре Александринки в 1917 году рядом с В.Н.Соловьевым, тот читал гранки своей рецензии, проходил мимо Н.С.Барабанов, Соловьев попросил папиросу, а Барабанов ответил в том духе, что и сам не курит, и другим не рекомендует, и Соловьев сказал «Ах, так!» и на глазах Арбениной перечеркнул в гранках абзац о Неизвестном. Так пишется история.
Можно было навещать в московском Доме престарелых Иону Брихничева, однокашника Сталина по семинарии, попа-расстригу, знакомца Бялика, работника Наркомпроса, в этом качестве попавшего в эпиграмму Мандельштама. Мы читали про него в планах на лето 1910 года в дневнике Блока: «Поехать можно в Царицын на Волге – к Ионе Брихничеву. В Олонецкую губернию к Клюеву…». Он был ветх денми, заговаривался, сказал, что Блока помнит хорошо, тот был очень образованный человек, к нему приезжали даже советоваться из Синода, – и мы с Гариком Суперфином подумали, что ага, это очень интересное свидетельство, а потом спросили про Есенина – оказалось, тот был очень образованный человек, к нему приезжали даже советоваться из Синода, а вот Шаляпин – тот был очень образованный человек, к нему приезжали даже… Про Мандельштама и Бялика мы уж не стали спрашивать.