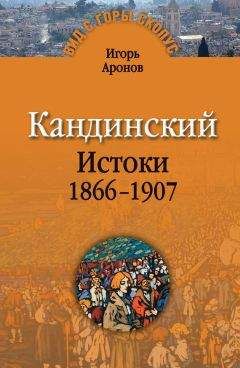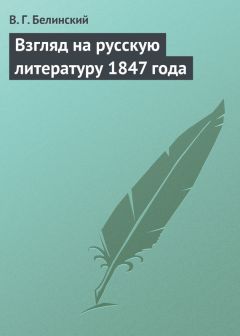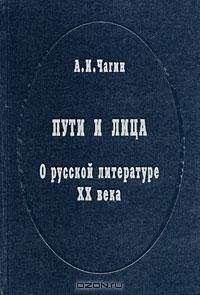Роман Тименчик - Что вдруг
Мандельштам, по-видимому, если не сам предложил, то санкционировал имя изображающего его героя дона Хозе делла Тиж д'Аманда – перевод на французский немецкого Mandelstamm («ствол миндаля») – tige d’amande. Каламбуры на тему этой еврейско-немецкой фамилии были ходовыми еще применительно к дальнему родственнику поэта, известному врачу и общественному деятелю М.Е.Мандельштаму4. Аллюзии на этимологию собственной фамилии присутствуют, вероятно, в поэзии Мандельштама5 и «Египетской марке».
Мандельштам в этой комедии говорит перелицовками своих стихотворений применительно к своей же кофемании, которой он воздал дань и в лирике и в прозе:
Тиж д’Аманд
Мне дан желудок, что мне делать с ним,
Таким голодным и таким моим.
О радости турецкий кофе пить
Кого, скажите, мне просить?
Суламифь
Вы, верно, влюблены?
Тиж д’Аманд
Не сомневаюсь.
Я кофия упорно добиваюсь.
Я и цветок и я же здесь садовник…
Суламифь
Я напою вас, если вы любовник.
Тиж д’Аманд
Явлений грань кофейником разрушь.
Я пустоты всегда боялся.
Суламифь
Чушь.
Тиж д’Аманд
Кузнечиков в моем желудке хор.
Я чувство пустоты испытываю.
Суламифь
Вздор.
Ступайте-ка влюбиться,
Да повздыхать, да потомиться,
Тогда пожалуйте в кафе.
Тиж д’Аманд
(гордо)
Любовной лирики я никогда не знал.
В огнеупорной каменной строфе
О сердце не упоминал.
(подходит к кофейнику и величественно в него заглядывает)
Суламифь
Куда ты лезешь? Ишь какой проворный!
Проваливай!
Тиж д’Аманд
Ваш кофе слишком черный!
(медленно удаляется, декламируя)
Маятник душ – строг
Качается, глух, прям,
Если б любить мог…
Суламифь
Кофе тогда дам.
Способам удовлетворения кофейной страсти Тижа – Мандельштама учит «внесценический персонаж» – проживавшая тогда же в Алуште легендарная Паллада, соименница «богини моря, грозной Афины» из мандельштамовского стихотворения «В Петрополе прозрачном мы умрем», вписанного в альбом Анны Радловой:
(Появляется сияющий Тиж д’Аманд)
Тиж
Ура, ура, я больше не в загоне,
Я объяснился вашей бонне…
Она меня с позором прогнала,
Шпицбубом назвала
И запустила вслед пантоффель.
В тяжелых муках заслужил я кофе.
Суламифь
Как эта мысль вам в голову пришла?
Тиж
Паллада мудрая совет мне подала.
О повязанности общими заботами о пропитании Мандельштам 15 августа 1917 года вписал в альбом Паллады (с которой пользовался общей молочницей) двустишие:
Я связан молоком с языческой Палладой,
И кроме молока мне ничего не надо!6
Оставшаяся за кулисами действия Паллада возникает в комедии еще раз, в основном своем качестве практика и теоретика науки любви7:
Котикус
Кого любить и кем увлечься надо?
Суламифь
Не все ль равно? Кто нравится – хорош.
Котикус
Так говорит и некая Паллада.
В другой раз автор «Камня» говорит элегическим дистихом в тон встреченному «Александрису Леонидопуло, педагогу» – критику, пушкиноведу, прозаику Александру Леонидовичу Слонимскому (1884–1964). Александр Слонимский на склоне лет поминал Алушту как «Крымскую лабораторию формализма»8. Воздыхания Леонидопуло —
Тягостей, ох, не снесут брюкоодетые чресла,
Лунною ночью и днем плачу я все об одном:
Встретилась мне на пути бронзовоплечая дева,
Я ей сандалии шил, с нею ходил в вертоград.
Чтобы ее ублажить прохладнопенным напитком,
Часто я смелой рукой вымя коровье трепал.
Сколько письмен заказных из Алустии ей приносил я,
Сколько конфект покупал, сколько истратил я драхм.
Вечно сурова ко мне ременнообутая дева,
Вечно над мукой моей, злая, смеется она.
Но я сегодня решил, облачившись в купальные трусы,
С камней Черновских стремглав в черные волны прыгнуть…
Путница, встретив Вирджинию, ты ей скажи непременно:
Горестный Александрис в волнах соленых погиб…
Милая дева, прощай. Граждане Крыма, прощайте… —
стилизуют облик А. Слонимского в некотором контрасте с его незадолго до того продемонстрированной мужской взрослостью – он работал в санитарном отряде Союза городов и описал фронтовые впечатления в очерках «Картины войны»9. Мандельштам и Слонимский впервые выходят на сцену одновременно:
Входят с двух сторон Леонидопуло и Тиж д’Аманд. Первый нагружен пакетами.
Второй с книгой под мышкой, на лице физическое и нравственное страдание.
Леонидопуло
Где же Вирджиния, где же? Ответствуй, прохожий. Не знаешь.
Грустным взором глядишь, верно несчастен и ты.
Тиж
«Камень» в витринах есть, но есть и в печени камень:
Знай, рассосаться, мой друг, трудно обоим камням.
«Вирджиния, девушка», к которой взывает Леонидопуло, – Наталья Владимировна Гвоздева-Султанова (1895–1976)10 названа говорящим именем потому, что носила «девическую» прическу – коски по ушам. Урожденная Шумкова, она описана в автобиографической прозе Ольги Морозовой под именем «Наташи Ш., “шармантной”, как говорилось, девицы»11. Она и сообщила текст пьесы, расшифровав имена персонажей12.
Первая из вышеприведенных сцен, где пререкаются С.Н. Андроникова (Суламифь) и Мандельштам (Тиж д’Аманд), смутно хранившаяся в памяти другого персонажа комедии, Виктора Жирмунского (Витикуса), заставила его предположить, благодаря известной перекличке мотивов, реальные лица за фельетонными масками в одном из очерков Георгия Иванова. После чтения «Истории одного посвящения» Марины Цветаевой и обсуждения этого очерка с В.М.Жирмунским в 1964 году Ахматова записала в рабочей тетради:
Кроме Коктебеля, М<андельшт>ам в Крыму бывал в Алуште (дача Магденко). Там в 16–17 была Саломея с Рафаловичем (С. 557); О. М<андельшта>м жил в Крыму 1916-17 г. <…> в Алуште у Магденко. Там в это время были <…> Саломея с Рафаловичем [-] [п]ара, из кот<орой> старый пасквилянт (Г.Иванов) мог слепить богатого армянина и его хорошенькую содержанку. Оба в это время были в Париже, и, конечно, без битья дело бы не обошлось (пред <положение> В.М. Ж<ирмунского>, не знать, к кому относится соломка, Георгий Иванов просто не мог (это знали все), и если он называет ее хорошенькой содержанкой, ему нужна маска13.
Речь идет о цитируемом у Цветаевой очерке Г.В.Иванова из цикла «Китайские тени»:
Мандельштам жил в Коктебеле <…>, сопровождаемый улюлюканьем местных мальчишек и улыбками остального населения «живописного уголка». Особенно, кстати, потешалась над ним «она», та, которой он предлагал «принять» в залог вечной любви «ладонями моими пересыпаемый песок». Она (очень хорошенькая, немного вульгарная брюнетка, по профессии женщина-врач) вряд ли была расположена принимать подарки такого рода: в Коктебель ее привез ее содержатель – армянский купец, жирный, масляный, черномазый. Привез и был очень доволен: наконец-то нашлось место, где ее было не к кому, кроме Мандельштама, ревновать… <…> Мандельштам шел по берегу <…>. Недовольный, голодный, гордый, смешной, безнадежно влюбленный в женщину-врача, подругу армянина, которая сидит теперь на своей веранде в розовом прелестном капоте и пьет кофе – вкусный, жирный кофе, и ест горячие, домашние булки, сколько угодно булок…14.
Догадка В.М. Жирмунского подтверждается формулировкой Г.В. Иванова – последний писал В.Ф. Маркову в 1957 году: «Саломея <…> жена знаменитого булочника, рожд<енная> кн<яжна> Андроникова[,] держал[а] салон <…> Теперь эта Саломея в Лондоне, большевизанит. <…> это та Саломея, “когда соломинка не спишь в огромной спальне”»15.
Жирмунский-Витикус существовал в «Кофейне» в комической паре с Котикусом:
Котикус
Профессор Витикус, ах что вы, что вы…
Витикус
Профессор Котикус, я сотни книг…
Котикус
Профессор, вы к науке не готовы.
Витикус
Профессор, я методику постиг.
Котикус
Прошу, профессор, объяснить позвольте…
Витикус
От объяснений вы меня увольте.
Котикус
Пиррихий и пэон четвертый суть
Две вещи разные.
Витикус
Да я ничуть
Не отрицал.
Котикус
Поэзия не проза,
Метафора не есть метемпсихоза.
Лишь эту разницу переварив, мы
Дойдем до мужеской и женской рифмы…
Профессор Котикус – Константин Васильевич Мочульский (1892–1948), тогда – начинающий филолог16, приват-доцент Петербургского университета, впоследствии, в эмиграции – видный литературовед17. Со студенческих лет был дружен с Мандельштамом и Гумилевым18. Увлекался театром19, участвовал в любительских спектаклях. Его парижский друг вспоминал: «Мы знали в К.В. его склонность к игре, которая как-то удивительно уживалась в нем с добросовестностью и основательностью университетского ученого и с глубокой серьезностью в разрешении проблем его личной духовной жизни»20. Он, видимо, писал лирические стихи – как будто только одно из них, внесенное в альбом Анны Ахматовой, опубликовано21, но в дружеском кругу больше был известен своими пародиями22.