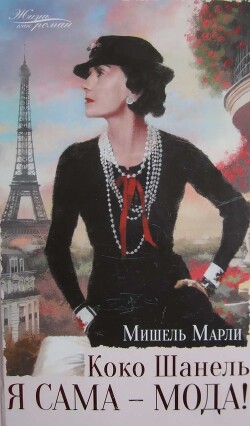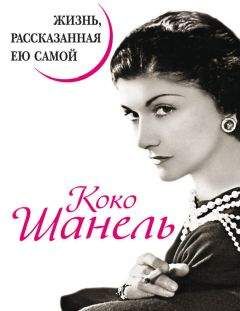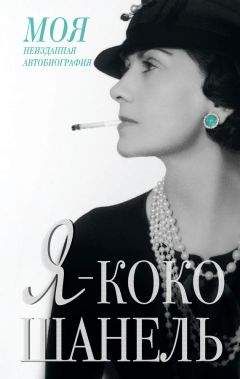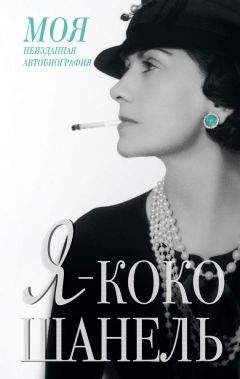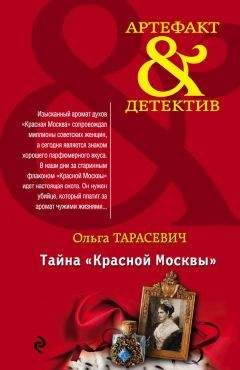Аромат империй. «Шанель № 5» и «Красная Москва». Эпизод русско-французской истории ХХ века - Шлегель Карл
В 1990-е годы в стране откуда ни возьмись снова появились барахолки. Самые большие базары возникли на Московском олимпийском стадионе, на конечных остановках метро в Ленинграде или на Седьмом километре под Одессой. Это были огромные перевалочные базы, настоящие караван-сараи. Чего там только не было! Междугородние автобусные станции, полицейские участки, забегаловки, ночлежки, целые города из палаток и контейнеров, нагроможденных друг на друга в несколько этажей. Все это напоминало древние торжища, восточные базары, средневековые гостиные дворы, суету ярмарочных площадей и рыночных рядов. Назвать этот феномен черным рынком было бы неверно, потому что все происходило публично, на квадратных километрах городских окраин. Долгое время неформальная, но реальная экономика обгоняла экономику формальную, статистически зафиксированную, но фиктивную. На барахолках продавалось все: «рибоки» и «адидасы», турецкая кожгалантерея, итальянские модные лейблы, корейская развлекательная электроника, яблочные соки из Германии, кондомы, свадебные платья, аксессуары для ванных комнат. Бесконечно длинный перечень точно отражал структуру потребностей выбитого из колеи общества. И в этом перечне непременно значилась парфюмерия, все бренды мира во всех ценовых диапазонах. Челноки покупали их в Стамбуле, Неаполе, Александрии, Урумчи и перепродавали в самых захолустных уголках российской провинций. Спросом пользовались все марки от Армани, Картье, Шанель, Элизабет Арден и до Эрменгильдо Зегна — конечно, сплошь подделки. В те времена важна была не подлинность изделия, а имя, ярлык, ведь он придавал владельцу статус успешного бизнесмена. Новые рынки Восточного блока в действительности представляли собой параллельные зоны потребления: с одной стороны, флагманские магазины и бутики с предметами роскоши, а с другой — базары с фальшивыми марками, доступными даже обычным людям 165.
Международные бренды косметики и парфюмерии стремительно захватывали новые рынки бывшего Восточного блока. Они мгновенно расположились в лучших местах российской столицы. Это говорило не столько о слабости советских брендов, сколько о мощи индустрии роскоши, которая в годы второй глобализации стала одним из самых влиятельных игроков на мировом рынке 166. Крупные международные дома моды, такие как Виттон, Элизабет Арден, Прада, Шанель, представляли свои коллекции в самых престижных учреждениях страны. Карл Лагерфельд, например, устроил свой показ в московском Малом театре 167. В коллекциях знаменитых модельеров обыгрывалось великое русское наследие: роскошь аристократии, утонченность Серебряного века и электризующее формотворчество авангарда. Фирма «Луи Виттон» отпраздновала свой юбилей, установив на Красной площади перед ярко освещенным фасадом ГУМа, прямо напротив Мавзолея, чемодан высотой до второго этажа, внутри коего выставила экспонаты, иллюстрирующие историю фирмы 168.
Триумфальный марш парфюмерии был лишь характерным признаком революции образа жизни в городских центрах бывшего Советского Союза. Смена декораций (кодовое название революции в русской литературе XIX века) происходила на всех уровнях. Люди по-новому обставляли жилища, ездили отдыхать на Канарские острова или в Венецию, пристрастились к французскому сыру и красному вину. Реакция на вторжение иностранных ценностей не заставила себя ждать: многие отправились на поиски утраченного времени, ностальгировали по запахам советской эпохи. Появились и вошли в моду ремейки старых брендов. «Красная Москва» снова нашла покупателей. Вернулась старая-новая национальная гордость, возобновились поиски следов и реликвий прошлого. На любом базаре и блошином рынке у ларька с флаконами советской или дореволюционной эпохи собирались знатоки предмета и ценители, увлеченные созданием своих частных коллекций. Многие порталы в Интернете стали публиковать сведения о находках и утратах, ученые комментарии, фотографии из семейных альбомов. Ведь в виртуальном пространстве флакон становится центром, вокруг которого вращается коллективная память. В Москве открылись музеи парфюмерии и косметики: на Ильинке, 4 (Музей моды) и на Арбате, 36/2. Вышли из печати великолепно иллюстрированные книги по истории парфюмерного дела в России. Резко поднялись цены на старинные марки. Несколько лет назад неоткрытый флакон «Тройного одеколона» продавали за 35 000 рублей. Винтажные флаконы все еще можно приобрести в беспошлинной зоне аэропортов, благоухающей ароматами со всего света.
Не только «Черный квадрат». Флакон Малевича
В этом потоке воспоминаний, ностальгии и поисков утраченной красоты особое место занимает одна удивительная находка. Это флакон работы Казимира Малевича, экспонированный в павильоне «Рабочий и колхозница» [31], где в конце 2017 / начале 2018 годов проходила выставка под интригующим названием «Не только черный квадрат». Сенсацией было то, что Малевич, автор «Черного квадрата», знаменитый основоположник абстракционизма, предстал перед публикой как дизайнер такого обыденного предмета, как флакон одеколона «Северный», давно популярного в России. И спроектировал он этот флакон еще до революции.
Александра Шатских, лучший знаток Малевича и Шагала, разыскивала его много лет, и ее поиски увенчались успехом. Шатских долгое время поддерживала тесный контакт с потомками Малевича. В их доме она нашла доказательства того, что молодой Малевич, переехав в Москву из Курска, был вынужден брать коммерческие заказы, чтобы прокормить семью. Рекламные плакаты, рисунки и дизайнерские проекты вроде бы не имели ничего общего с его призванием как художника. Но заказчиком был Александр Брокар, меценат и коллекционер. Он-то и поручил Малевичу создать флакон для одеколона «Северный» 169. Александра Шатских полагает, что это произошло на рубеже 1910-х годов. Малевич уже тогда был известен как автор импрессионистских и символистских полотен, светящихся пейзажей и портретов. Заказ Брокара просто позволил ему заработать на жизнь, но всего через несколько лет, в 1915 или 1916 году, «Черный квадрат» прославил его на весь мир как пионера абстрактной живописи, как изобретателя супрематизма. То, что флакон для «Северного» создал Малевич, было поразительным открытием, но вот что не менее поразительно: миллионы ценителей, поколения покупателей не знали об авторстве Малевича. И только спустя столетие, и как бы за спиной потребителей, советский авангард и прикладная цель нашли друг друга. И этому не помешали ни революция, ни даже распад Советского Союза, поскольку можно рассчитывать на возобновление производства одеколона «Северный». Александра Шатских в своем исследовании как раз и обнаружила эту изюминку: сочетание утонченного дизайна и ширпотреба, эстетическое оформление быта 170. Идея Малевича заключалась в создании сосуда высотой около 19,5 сантиметров, состоящего из трех деталей: хрустальный флакон закрывался стеклянной пробкой, на ней крепился конус неправильной формы, в котором легко узнавался айсберг. «На полупрозрачный айсберг взобрался белый медведь и остановился на краю пропасти. Медведь уперся передними лапами в лед перед уходящей вниз пропастью, а две задние еще шагают. Скульптурная миниатюра отличается тонкой разработкой деталей: здесь и фактурные прядки шерсти, и отдельные ступни всех четырех лап, и хвостик, здесь и монументально-обобщенная, несмотря на малые размеры, морда». Белый медведь на верхушке айсберга стал товарным знаком одеколона «Северный». С 1912 года, когда флакон поступил в продажу, до временного прекращения производства были проданы миллионы его копий. Нескольким поколениям он запомнился на всю жизнь. Миллионы людей выросли в компании этого белого медведя, который был слегка модифицирован и, следовательно, несколько огрубел, но оставался легко узнаваемым в качестве товарного знака. Вот что значит настоящая эмблема, настоящее lieu de mémoire 171. Александра Шатских сумела показать, насколько тщательно Малевич изучал технику художественного ремесла, например шлифовку стекла: одна из его ранних картин так и называется: «Шлифовальщик стекол», или «Туалетная шкатулка» 172. Кроме того, от рекламного плаката для одеколона «Северный», на котором изображен белый медведь на фоне северного сияния, она провела линию к опере «Победа над солнцем». Малевич уже тогда работал над этой оперой вместе с другими авангардистами — Велимиром Хлебниковым, Михаилом Матюшиным и Алексеем Крученых. Опера должна была стать основой революционного футуристического «комплексного искусства». И тут невольно напрашивается параллель с русскими балетами, с тем, что создавал его соотечественник и современник Сергей Дягилев в Париже.