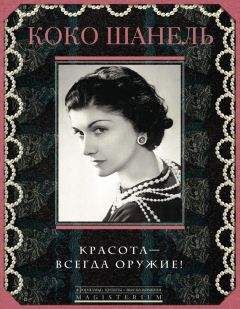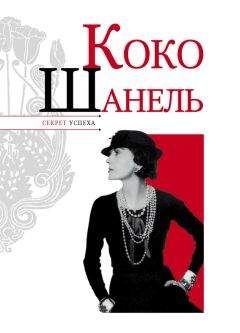Коко Шанель. Я сама — мода - Марли Мишель

Обзор книги Коко Шанель. Я сама — мода - Марли Мишель
Париж, 1919 год. Коко Шанель уже создала свой знаменитый модный дом. Потрясенная внезапной гибелью возлюбленного, она решает увековечить свою любовь оригинальным ароматом новых духов. Коко предлагает свою помощь сам Франсуа Коти, великий парфюмерный магнат, но найти неповторимый запах не удается. Только благодаря роману с великим князем Дмитрием Романовым, представившим ей парфюмера-эмигранта Эрнеста Бо, рождается аромат «Шанель № 5». Роман повествует об одном из ярких эпизодов в жизни будущей законодательницы моды XX века.
Мишель Марли Коко Шанель. Я сама — мода!
Посвящается моей дорогой матери, которая открыла мне мир моды.
У женщины, которая не пользуется духами, нет будущего.
Пролог
1897
Один, два, три, четыре, пять… один, два, три, четыре, пять…
Губы её беззвучно шевелились. Она считала элементы мозаики у себя под ногами, неровные и отшлифованные за тысячу лет бесчисленным множеством ног. Геометрические фигуры и мистические рисунки, выложенные речной галькой.
Здесь пять звезд, там пять цветков, а вот — пятиугольник. Это не было случайным совпадением. Она уже знала, что у членов цистерцианского ордена число «пять» считается магическим — в нем сокрыто истинное и совершенное воплощение вещей. Бутоны роз состоят из пяти лепестков, яблоки и груши имеют пятиконечную сердцевину. Человек обладает пятью чувствами, а пять ран Христовых упоминаются на каждом молебне. Правда, монахини не рассказывали ей о том, что, кроме всего прочего, это еще и число любви, число Венеры, неделимая сумма мужского числа «три» и женского числа «два». Этот чрезвычайно любопытный факт она, четырнадцатилетняя девочка, вычитала в книжке, которую тайком изучала на чердаке.
Монастырская библиотека хранила удивительнейшие сокровища, например, дошедшие до наших дней из Средневековья проповеди Бернарда Клервоского. Может, не такие пикантные, но всё же не предназначенные для глаз юных воспитанниц. В них он напоминал монахам о том, какую важную роль играют благовония во время молитв и ритуальных омовений. Основатель цистерцианского ордена даже советовал своим собратьям по вере — для духовного сосредоточения — представлять себе благоуханные груди Девы Марии, воспетые в Песни песней. А ладан и жасмин, лаванда и розы на алтаре, воздействуя на обоняние, способствуют погружению в молитву.
Но для неё, сироты, ароматы, добытые из растений монастырского сада, оставались всего лишь мечтой — такой же несбыточной, как и желание прижаться к пышной груди любящей матери. В умывальной воспитанниц регулярно терли дешевым хозяйственным мылом, смывая с них грязь после работы в поле или на кухне, чтобы они пахли чистотой, а не потом и усталостью, — ни о каком благоухании не могло быть и речи. К грубым белым простыням, которые ей приходилось стирать, при необходимости штопать и аккуратно складывать в стопку в бельевой, здесь относились куда бережнее, чем к коже сирот.
Один, два, три, четыре, пять…
Она коротала время за этим счётом, вместе с другими девочками ожидая исповеди. После бесконечно долгого изнурительного стояния по стойке смирно девочки одна за другой заходили в исповедальню. Ей казалось, что монахини требовали от них безмолвия и солдатской выправки, на которые не хватало сил ни у одного ребенка, лишь для того, чтобы в итоге девочкам было в чем покаяться. Как правило, ни одна из них не успевала согрешить с момента последней исповеди в прошлую субботу.
Здесь наверху, на холме, продуваемом всеми ветрами, на котором в XII веке возникло аббатство Обазин, просто не было возможности грешить.
Она уже почти два года жила в этой уединенной обители, в сердце Франции, в монастыре, расположенном так далеко от дороги в Париж, что мысль сбежать даже не приходила в голову. Прошло уже более семисот дней со дня смерти матери и с той минуты, когда отец посадил ее в повозку и отвез к цистерцианцам. Он попросту избавился от нее, как от лишней обузы. После этого отец исчез навсегда, а перед хрупкой душой маленькой девочки будто разверзлась преисподняя. День за днём она отчаянно ждала того момента, когда сможет покинуть монастырь и начать самостоятельную жизнь. Быть может, заветным ключиком в эту жизнь станут иголка с ниткой? У тех, кто умел шить и проявлял упорство, был шанс добраться до самого Парижа и, если повезет, устроиться в каком-нибудь крупном ателье мод. Время от времени она слышала подобные разговоры, хотя толком не понимала, о чем идет речь.
Но звучало это так волнующе. Ателье мод… Эти слова будили воспоминания. Восхитительные ткани, шелест шёлка, тончайший аромат мягких, как пена, оборок, изящное кружево… Её мать никогда не была дамой. Она была прачкой, а отец уличным торговцем. Ему и не снилось торговать такими изысканными товарами, но почему-то каждая мысль о красивых вещах неизменно вызывала у неё ассоциации с образом татап. Она тосковала по ней так сильно, что временами кружилась голова от боли и невозможности вновь испытать то чувство защищенности, которое дарила мама.
Но теперь она была одна, и рядом не осталось никого, кто поддерживал бы ее. Испытания, бесконечная муштра, наказания и отпущение грехов — вот все, что составляло ее жизнь. А ведь ей так хотелось хоть чуточку тепла! Может быть, это грех, в котором стоило бы раскаяться? Не станет ли груз этой тайны когда-нибудь настолько тяжелым, что лишит покоя ее душу? Может быть, размышляла она про себя. А может быть, и нет. Она не признается духовнику в том, что в жизни ей хочется лишь одного — любви. Во всяком случае, не сегодня. И, наверное, никогда.
Молча считала она мозаичные камни на полу по пути к церкви Обазин: один, два, три, четыре, пять…
Часть первая
1919–1920
Глава первая
Желтый свет фар разрезал туман, поднимавшийся с Сены и окутавший деревья на берегу плотным белым покрывалом. «Словно саван», — пронеслось у него в голове.
Сам того не желая, Этьен Бальсан вдруг представил себе эту картину: раздробленные конечности, обгоревшая кожа, мертвое тело, покрытое простыней. В ногах покойного ветка самшита, на груди распятие. У изголовья стоит чаша со святой водой, которая слегка заглушает запах смерти. Отблеск свечей бросает призрачные тени на покойника, над телом которого монахини немало потрудились, чтобы придать ему относительно пристойный вид.
Этьен невольно задумался, что стало с красивым лицом его друга. Он знал это лицо почти так же хорошо, как свое. Вероятно, мало что осталось от гармоничных черт, от прямого носа и красиво изогнутых губ. Когда автомобиль на полном ходу летит под откос, врезается в скалу и загорается, что там вообще может уцелеть?
Этьен почувствовал что-то влажное на своей щеке. Дождь? Включая стеклоочиститель, он нечаянно резко дернул руль влево, и автомобиль вынесло на встречную полосу. Он судорожно вдавил в пол педаль тормоза, грязь из-под колес брызнула на боковое окно. Щетка со скрипом заерзала по стеклу. Никакого дождя не было. Это слёзы текли по его щекам, волна усталости и печали обрушилась на него и грозила раздавить. Если он не хочет кончить так же, как его друг, надо взять себя в руки.
Машина стояла поперек дороги. Этьен несколько раз глубоко вдохнул, чтобы успокоиться, выключил стеклоочиститель, взялся за руль обеими руками и нажал на газ. Мотор взвыл, колеса несколько раз провернулись на месте, и автомобиль рванулся вперед. Этьен почувствовал, что сердце бьется ровнее. К счастью, в такое позднее время встречных машин не было. Он заставил себя смотреть прямо перед собой — мало ли какой-нибудь зверь выскочит на дорогу. У него не было желания случайно задавить лису — если уж охотиться на лис, то лучше верхом на лошади. Его друг тоже был заядлым наездником. Любовь к лошадям их и сблизила. Артур Кэйпел, вечный юноша, за всю жизнь так и не избавившийся от своего детского прозвища «Бой», потрясающе играл в поло. Бонвиван, умный и обаятельный, джентльмен до мозга костей, британский дипломат, получивший в войну звание капитана, — человек, которого любой был бы рад назвать своим товарищем. Этьену посчастливилось — он был в числе его самых давних и лучших друзей. Был… По его загорелой щеке вновь покатилась слеза. Он не стал её вытирать. Нельзя больше отвлекаться на собственные мысли, если он хочет добраться в Сен-Кюкюфа целым и невредимым. Это последнее, что можно сделать для умершего, — сообщить Коко о случившемся прежде, чем она узнает об этом из газет или от какой-нибудь сплетницы. Вот уж поистине тяжкий долг, но он исполнит его во что бы то ни стало.